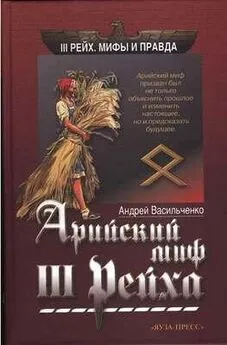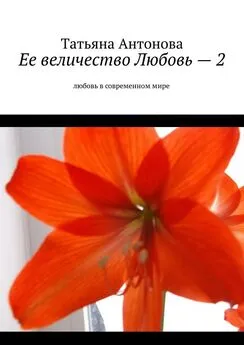Виктор Шнирельман - Арийский миф в современном мире
- Название:Арийский миф в современном мире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0422-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Шнирельман - Арийский миф в современном мире краткое содержание
В книге обсуждается история идеи об «арийской общности», а также описывается процесс конструирования арийской идентичности и бытование арийского мифа как во временном, так и в политико-географическом измерении. Впервые ставится вопрос об эволюции арийского мифа в России и его возрождении в постсоветском пространстве. Прослеживается формирование и развитие арийского мифа в XIX–XX вв., рассматривается репрезентация арийской идентичности в науке и публичном дискурсе, анализируются особенности их диалога, выявляются социальные группы, склонные к использованию арийского мифа (писатели и журналисты, радикальные политические движения, лидеры новых религиозных движений), исследуется роль арийского мифа в конструировании общенациональных идеологий, ставится вопрос об общественно-политической роли арийского мифа (германский нацизм, индуистское движение в Индии, правые радикалы и скинхеды в России).
Книга представляет интерес для этнологов и антропологов, историков и литературоведов, социологов и политологов, а также всех, кто интересуется историей современной России. Книга может служить материалом для обучения студентов вузов по специальностям этнология, социология и политология.
Арийский миф в современном мире - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Немалую роль в обсуждении «арийской тематики» в центральноазиатском контексте сыграл перевод работ европейских ученых, изучавших географию, этнографию и историю региона, в частности рассмотренной выше книги Ф. Ленормана (1878) о древних ариях. Например, посланный из Парижа в Среднюю Азию для изучения местного населения Ш. Э. Уйфальви, убежденный в местоположении «колыбели арийской расы» на Памире, искал в 1876–1878 гг. «чистых арийцев» среди горных таджиков (Оранш 2012).
Вместе с тем венгерского путешественника и ученого А. Вамбери термин «арийцы» не соблазнял и, описывая древности Центральной Азии, он предпочитал ему термин «иранцы». Он был в числе первых, кто пытался по имевшимся тогда скудным данным реконструировать особенности древнейшего прошлого региона, и предложенная им схема пользовалась в конце XIX в. популярностью. Вамбери доказывал, что древнейшая местная цивилизация была основана иранцами, обладателями высокой культуры. Их колыбелью Вамбери называл Бактрию и Согдиану. В начале VIII в. они были завоеваны и исламизированы арабами, но все же смогли оправиться от поражения и создать блестящее государство Саманидов. Древних иранцев и их потомков-таджиков Вамбери рисовал мирными земледельцами и с осуждением писал о тюрках-кочевниках, которые якобы ничего не создавали, а лишь грабили и разрушали созданное до них. По его мнению, они начали проникать в Центральную Азию начиная с II в. до н. э. и накануне арабского завоевания установили там свое владычество. Но их окончательное возвышение произошло после прихода сельджуков (Вамбери 1868: 240–255, 297–298, 315–316; 1873: 5 – 116). Примечательно, что в работах Вамбери термины «народ», «племя» и «раса» использовались как синонимы, что было типичным для того периода.
Сходную картину рисовал в своей диссертации о Хивинском ханстве русский исследователь Востока Н. И. Веселовский, активно использовавший для исконного местного населения термин «арийцы». Он также считал их колыбелью Бактрию и наделял их «парсским языком». В то же время он признавал, что среди «арийцев» были как оседлые жители, так и кочевники. К последним среди прочих относились саки и массагеты, причем к массагетам он причислял и юэчжей (эфталитов), тогда как кангюй и усуни были, на его взгляд, тюрками. Подобно Вамбери, он полагал, что в VI в. регион был завоеван тюрками, а 200 лет спустя – арабами. В арабскую эпоху тюрки были воинами-наемниками, и лишь в сельджукский период, пришедший на смену Саманидам, установилось их окончательное господство (Веселовский 1877: 1 – 50).
Все это подхватили «восточники», в трудах которых научные идеи сплетались с политическими в тугой узел. Для них завоевание Центральной Азии представлялось несомненным благом и безусловной необходимостью. Поэтому они делали все возможное для его оправдания. Они называли Центральную Азию ранним регионом обитания «арийцев», откуда те были затем вытеснены «пришельцами-туранцами». Примечательно, что в работах «восточников» местные «арийские» народы отнюдь не выглядели «высшей расой» и заслуживали приобщения к «цивилизации». Но если, обсуждая русскую экспансию в Центральную Азию, публицист-народник С. Н. Южаков делал акцент на «цивилизаторской миссии» русских (Южаков 1885б: 8, 55–56, 74), то, сохраняя этот аргумент, географ М. И. Венюков добавлял к нему указание на, пусть и дальнее, родство русских с местными потомками «арийцев» и изображал колонизацию «возвращением» славян в район своей «доисторической родины» (Венюков 1877: 3; 1878: 2–3. Об этом также см.: Laruelle 2005: 136–139) 45. А Южаков исключал скифов, саков, парфян и юэчжей из числа «арийцев», относя их к «диким туранцам» (Южаков 1885а: 36–57). Зато он вспоминал об «арийстве» славян, изображая их продолжателями якобы вечной борьбы «арийцев» с «туранцами», земледельцев с дикими номадами, Добра со Злом. Якобы это тоже объясняло и оправдывало продвижение России на восток (Южаков 1885б: 46–56).
Зато поэт и публицист, князь Э. Э. Ухтомский, преследовавший те же цели, пытался примирить Иран с Тураном и стереть границу между ними. Примечательно, что такие идеи пришли ему в голову именно в Индии, а отнюдь не в Египте или Китае, не вызывавших у него мыслей о родстве. Например, в Китае он видел лишь «опаснейшего из соседей», образец «борьбы желтой и белой рас» и озабоченно рассуждал о том, что «расовая борьба» между Западом и Востоком набирала обороты (Ухтомский 1901). Напротив, будучи в Индии, он то и дело вспоминал об арийском родстве, а также постоянно делал акцент на «расовом смешении», происходившем в истории как Индии, так и России, начиная со скифов, которых он показывал смешанным народом. Он подчеркивал, что между Русью и Востоком имелась «органическая связь», в чем ему виделся залог заманчивого будущего. Он не только говорил о «слиянии западного начала с восточным», но и, предваряя евразийцев, призывал русских признать наследие, полученное от Чингисхана и Тамерлана (Ухтомский 1904а: 185–188, 277–282). Но к цивилизаторским, культурным, военным и историческим аргументам своих предшественников он добавил еще один – религиозный. Он испытывал восхищение перед буддизмом, отличавшимся от ведизма более широким мировоззрением. Буддизм представлялся ему связующим звеном между «арийским» и «туранским» мирами, ибо Будда, не являясь «арийцем», распространял свою веру равным образом среди арийцев и неарийцев. Напоминая о наличии калмыков и бурят в составе населения России, Ухтомский утверждал, что она, в отличие от Англии, призвана иметь приоритет в мире буддистов-ламаистов (Ухтомский 1904а: 177; 1904б: 16–18, 128). Иными словами, он развивал идею о том, что, благодаря «скифскому наследию», Россия по культуре оказывалась много ближе к Индии, чем Англия. Следовательно, самой «арийской судьбой» им суждено было выступать союзниками в борьбе с Западом, который, как он считал, был чужд настоящему Востоку. Но руководящую роль в этом союзе он отдавал России (Laruelle 2005: 163–167). Несколько позднее молодой востоковед О. Розенберг, обнаруживая корни буддизма в Индии, связывал его с «арийством» (Розенберг 1998; Тольц 2013: 95–96).
Примечательно, что позитивное отношение к межэтническому смешению вскоре дало Ухтомскому основание доказывать, что Россия близка не только к Востоку, но и к Европе. Опираясь на идеи шведского археолога О. Монтелиуса, он поместил родину русов в Предкавказье, где якобы происходило смешение германцев (готов), славян, горцев и степных кочевников и откуда шло их расселение по всей Европе. Тем самым, русские оказывались в родстве с германцами, а следовательно, и с англосаксами. Поэтому и варяги были им отнюдь не чужды (Ухтомский 1907).
Сходные взгляды с энтузиазмом развивал ученик Хомякова, основатель Томского университета и его первый ректор В. М. Флоринский. Будучи археологом-любителем, он считал оправданием археологии изучение «национального вопроса»: «Каждый археологический факт важен не сам по себе, а только в связи с прошлым того или иного народа» (Флоринский 1894: XVII). В его рассуждениях о задачах археологии отчетливо звучал политический мотив, ибо он полагал, что «восстановление древних границ у обездоленных народов составляет их историческую задачу, к которой инстинктивно стремится государственная жизнь… Здесь-то археологические памятники, правильно истолкованные, могли бы служить путеводной нитью» (Флоринский 1894: VI).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: