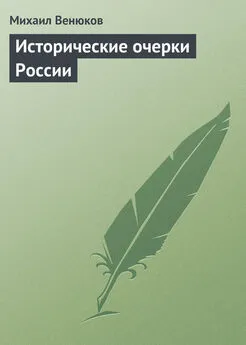Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма
- Название:Пригов. Очерки художественного номинализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0423-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма краткое содержание
Книга Михаила Ямпольского предлагает необычный взгляд на творчество одного из лидеров современного российского авангарда Дмитрия Александровича Пригова. Обычно Пригов интерпретируется как один из главных представителей отечественного концептуализма. Такой подход акцентирует значение художественного жеста и саморефлексии. Ямпольский пытается показать, что за концептуальным фасадом скрывается полноценный художественный мир, совершенно не сводимый к концептам и игре идей. Отсюда критика самого понятия концептуализма и пристальный интерес к поэтике приговских текстов, например, к предложенной им поэтике транзитности знака, проходящего сквозь медиум, несущий текст, и создающего особую темпоральность. Ямпольский рассматривает поэтику метаформозы, использование Приговым аристотелевского и лейбницевского принципа энтелехии в генезисе текстов, установку на понимание аффекта как формального компонента творчества и многое другое. В результате перед читателем возникает совсем иная, непривычная фигура Пригова – открывателя новых поэтик, лежащих далеко за пределами концептуализма.
Пригов. Очерки художественного номинализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Особенно любопытно это утверждение применительно не столько к мысли, которая может заимствоваться и быть чужой, но к эмоциям. Именно в жанре «лермонтизации», как коллажа, в котором отменено «авторство» и сопутствующая ей искренность отменена гипертрофированным эмотивизмом, была, например, написана Крученых и Хлебниковым в 1912 году ироническая поэма «Игра в аду», буквально предвосхищающая эксперименты Пригова. Вот ее вполне приговское и одновременно лермонтовское начало:
Свою любовницу лаская
В объятьях лживых и крутых,
В тревоге страсти изнывая,
Что выжигает краски их,
Не отвлекаясь и враждуя,
Давая ходам новый миг,
И всеми чарами колдуя,
И подавляя стоном крик [209] – и т. д.
Крученых вспоминал:
В одну из следующих встреч, кажется, в неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова, я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка – наброски, строк 40–50, своей первой поэмы «Игра в аду». Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг – собственные. ‹…› Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами [210].
Метод тут похож на то, как работал Пригов с Пушкиным. Блоки, входящие в текст, не образуют смыслового единства. Эйхенбаум был вынужден признать «эмоционализм» просто определенным стилистическим методом, оторванным от всякой искренности чувства. Именно это мы и наблюдаем во множестве сверхэмоциональных стихов Пригова, откровенно декларирующих полнейшую искусственность и сконструированность эмоций.
В том же 1924 году, когда была напечатана книга о Лермонтове, Эйхенбаум посвятил специальное эссе теме эмоций, которые, в свете лермонтовской поэтики, требовали более ясного определения. Это полузабытое эссе прокламирует необходимость различать «душевные» (целевые) и «духовные» (формальные) эмоции. Филолог писал:
Первые связаны с индивидуальным содержанием душевной жизни и им порождаются ‹…›. Эмоции второго порядка я называю «формальными» в том смысле, что они непосредственно не связаны с интимным содержанием индивидуальной душевной жизни, а относятся к ней как форма к материалу. Эстетическое восприятие характеризуется тем, что область душевных эмоций нейтрализуется, а возбуждается область иных эмоций. В искусствах, пользующихся словом (или его эквивалентами – мимикой и жестом), душевные эмоции нейтрализуются именно теми «условностями», которые свойственны этим искусствам. Театр должен иметь рампу или что‐нибудь ее заменяющее – уничтожение рампы всегда грозит тем, что зритель начнет колебаться между эмоциями разного порядка. ‹…› Нейтрализация душевных эмоций может быть осложнена расчетом на попутное их возбуждение, но только с тем, чтобы придать еще большую силу их переводу в область эмоций формальных, эстетических. ‹…› Ритмическая эмоция, эмоция речевая, пластическая, цветовая, звуковая, эмоции пространства, движения и т. д. – вот те формальные эмоции, которыми живет искусство и для удовлетворения которых оно существует. Этого рода эмоции, по природе своей, не индивидуальны, не обусловлены душевным состоянием личности – они социальны и в этом смысле объективны [211].
Аффект перестает связываться с переживанием, но становится элементом некой формальной структуры. «Безумный» и «неземной» в онегинском эксперименте нужны только для того, чтобы разрушить органическую смысловую структуру пушкинского стиха и переструктурировать ее с помощью совершенно десемантизированных «pointes». Если литератор работает на основе заимствованных блоков, только эмоциональные всплески способны придать им видимость смысла, в то время как смысл полностью переносится на рисунок, создаваемый формальной эмоцией. Аффекты должны вторгаться в линейность текста и производить в нем перестановки акцентов и смысла.
В 1981 году Пригов уже экспериментировал с текстами такого рода, предвосхищающими онегинский эксперимент. Эти тексты он осмысливает как диалогические и даже пишет сборничек «Рождение стиха из духа диалога». В том же году он создает программный цикл «Стихи для двух перепутанных голосов». В предуведомлении к циклу Пригов пишет о попытке отказаться от «прямой последовательности чувств и переживаний», которую можно, в терминах Эйхенбаума, обозначить как «душевные» эмоции и заменить чисто формальным соединением элементов:
…наскучившись прямым и последовательным изложением событий, слежением прямой последовательности чувств и переживаний, слагающихся в некий род драматического действия, где на вопрос следует ответ, а на действие – ответная реакция, решил я честно, открыто и формалистично перепутать два (иногда и три) взаимосвязанных, просто рядомположенных голоса. ‹…› Конечно же, должен оговориться, что голоса эти в некоторой степени (какой угодно малой), но объединены хотя бы моим желанием показать их необъединимость, а также перенятой из чужих, многовековых рук общеизвестной структурой русского стиха.
Работа Пригова тут в сущности та же самая, что Лермонтова в «Корсаре», сшивающего воедино «Кавказский пленник» и «Евгений Онегин» «перенятой из чужих, многовековых рук общеизвестной структурой русского стиха». Тексты Пригова прямо соотносятся с лермонтовским бессмысленным переносом формулы «Слишком знаем мы друг друга, Чтоб друг друга позабыть» из одного стихотворения в другое. Но, конечно, опыт Пригова резко радикализирован и доведен до крайности. Приведу два примера из этого цикла.
1 голос: Когда природа увядает, то кажется она страдает, глядясь у рокового входа. И гибнет вечная природа.
2 голос: Он говорил мне: будь моей! Отдайся пламени страстей! Но бросил среди жизни дна, и молча гибнуть я должна.
Когда природа увядает –
Он говорил мне: будь моей! –
То кажется она страдает –
Отдайся пламени страстей –
Глядясь у рокового входа –
Но бросил среди жизни дна –
И гибнет вечная природа –
И молча гибнуть я должна
Призрачное единство этого абсурдного текста создается ритмикой классического русского стиха, но, и в не меньшей мере, чрезвычайной тривиальностью аффективных клише. «Будь моей!», «природа увядает», «отдайся пламени страстей» и т. д. – настолько утратили смысл от многократного употребления, что парадоксально могут «сплачиваться», как писал Эйхенбаум. Аффект уничтожает смысл и открывает возможность бесконечной комбинаторики, автоматического производства текстов, интересующего Пригова. Аффект здесь бессмысленен и именно поэтому может порождать формальную эмоцию .
Второй пример, пожалуй, более радикальный. Тут Пригов не просто чередует строки, принадлежащие разным голосам, но вклинивает слова одного голоса внутрь фразы и даже внутрь слов, принадлежащих другому:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: