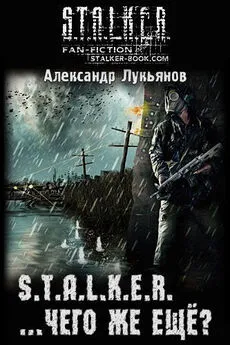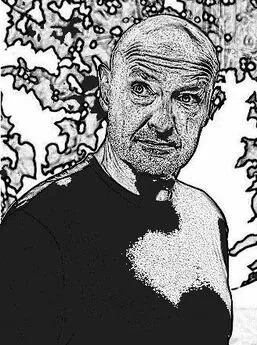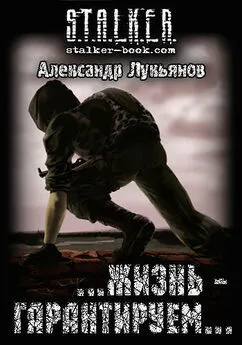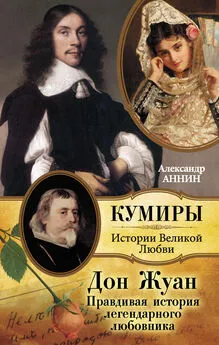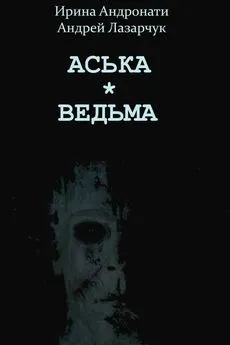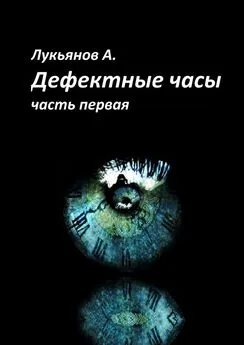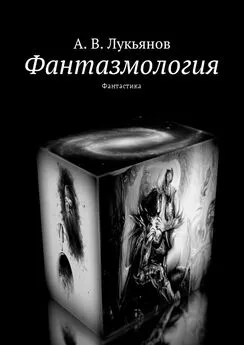Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном?
- Название:Был ли Пушкин Дон Жуаном?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0901-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном? краткое содержание
О Пушкине написано столько книг, что многотомная пушкиниана может составить хорошую библиотеку. Начиная с первых биографов поэта, П. В. Анненкова и П. И. Бартенева, пушкиноведы изучают каждый шаг великого гения, каждое его слово и движение пера. На основе воспоминаний, писем, дневников самого поэта и его современников создавались подробнейшие биографии и хронологии его жизни, расписанные чуть ли не по дням. Спрашивается, зачем нужна еще одна книга? Что нового найдет в ней искушенный читатель? Современный исследователь жизни и творчества Пушкина анализирует его личность, прежде всего с психологической точки зрения, прослеживая истории любовных увлечений. Чувственный мир поэта был очень богат; женская красота постоянно привлекала его внимание. «Он был гениален в любви, быть может, не меньше, чем в поэзии. Его чувственность, его пристрастие к женской красоте бросались в глаза. Но одни видели только низменную сторону его природы. Другим удалось заметить, как лицо полубога выступало за маской фавна», – писал П. К. Губер в книге «Донжуанский список Пушкина».
Говоря о личной жизни Пушкина, показывая его таким, каким он был на самом деле, автор не стремится опорочить его в глазах читателей. Главная цель этой книги – обнажить скрытые причины творческого вдохновения поэта, толкнувшие его на создание непревзойденных образцов любовной лирики.
Был ли Пушкин Дон Жуаном? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако из Киева вернулся Александр Раевский (12 февраля). Влюбленный в Елизавету Ксаверьевну, он свободно входил в ее дом в качестве родственника – «демон» Пушкина приходился Воронцовой троюродным племянником.
Раевский сам увлекался Воронцовой, может и состоял с ней в интимных отношениях. Прикрывая свое собственное увлечение Воронцовой, он по иезуитски направлял на Пушкина ревнивые подозрения мужа. Пушкин полностью подпал под власть этого скептика. Его впечатлительная и восприимчивая душа не могла отторгнуть змеиные нашептывания «друга». Мы знаем, какую роль он сыграл в отношениях Пушкина и Собаньской, постоянно подстегивая влюбчивого поэта. Язвительный Раевский в самом прямом смысле подавил волю Пушкина, который постоянно советовался с ним, рассказывал о своих успехах у женщин, переписывался с ним. Именно Раевский направил сексуальную энергию поэта в сторону легкомысленной Воронцовой.
Вот что рассказывает об отношениях А. Н. Раевского и Елизаветы Ксаверьевны Ф. Ф. Вигель: «В уме Раевского была твердость, но без всякого благородства. Голос имел он сам нежный. Не таким ли сладогласием в Эдеме одарен был змий, когда соблазнял праматерь нашу… Я не буду входить в тайну связей его с графиней Воронцовой, но, судя по вышесказанному, могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце и чувства. Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. Но так терзалось его ужасное сердце, имея всякий день перед глазами этого Воронцова, славою покрытого, этого счастливца, богача, которого вокруг него все превозносило, восхваляло… При уме у иных людей как мало бывает рассудка. У Раевского был он помрачен завистью, постыднейшею из страстей. В случае успеха, какую пользу, какую честь мог он ожидать для себя? Без любви, с тайной яростью устремился он на сокрушение супружеского счастья Воронцовых. И что же? Как легкомысленна женщина – Воронцова долго не подозревала, что в глазах света фамильярное ее обхождение с человеком ей почти чуждым его же стараниями истолковывается в худую сторону. Когда же открылась истина, она ужаснулась, возненавидела своего мнимого искусителя и первая потребовала от мужа, чтобы ему было отказано от дома…
Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина нетрудно было привлечь миловидной Воронцовой, которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта… Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспалять их в других, и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его. Еще зимой, чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского – с неверным другом Яго. Он только что засмеялся».
К слову заметить, опальный поэт везде находил себе напарника по «амурным» делам. В Кишиневе это Н. С. Алексеев, верный друг поэта и хранитель многих его рукописей, в Одессе – пресловутый А. Н. Раевский, в Тригорском – А. Н. Вульф. Далее можно будет проследить эту линию «ловеласов». Раевский – «учитель нравственности» для Пушкина, а сам Пушкин – учитель в «делах любовных» Алексея Вульфа.
Роман с Воронцовой приобретал все более четкие очертания. Ревность к Раевскому снова начала тяготить поэта, сопровождая его очередное увлечение. Ведь иначе поэт просто не мог любить. Добиться любви женщины, у которой есть любовник, или, по крайней мере, друг сердца – основная задача Пушкина, решаемая на подсознательном уровне. Интимные отношения между Пушкиным и Воронцовой окружены глубочайшею тайной. Скорее всего, Раевский, так зорко следивший за графиней, ничего не знал наверное и был вынужден ограничиваться лишь смутными догадками.
В то же самое время поэт иногда посещал свою прошлую любовь – Амалию Ризнич. Состояние ее постоянно ухудшалось. Роды сильно подорвали здоровье болезненной итальянки. Весной 1824 года ее муж писал П. Д. Киселеву: «После родов ей становится все хуже и хуже. Изнурительная лихорадка, непрерывный кашель, харканье кровью внушили мне самое острое беспокойство. Едва пришла весна, припадки сделались сильнее. Тогда доктора объявили, что категорически, не теряя времени, она должна оставить этот климат, так как иначе они не могли бы поручиться за то, что она переживет лето. Само собой, я не мог выбирать и стремительно решился на отъезд».
В первых числах мая 1824 года Амалия Ризнич, больная и совсем уставшая от жизни, покинула Россию. Она уехала за границу, без мужа, со своим ребенком… Вместе с ней уехал за границу и соперник Пушкина, Исидор Собаньский. Он настиг ее на пути, недалеко за русскою границею, провожал до Вены и вскоре потом оставил ее навсегда. Через несколько месяцев, по всей вероятности, в начале 1825 года, г-жа Ризнич умерла. Не думаю, что смерть бывшей любовницы нанесла поэту существенную рану, как всегда он потосковал чисто поэтически. Весть о ее смерти Пушкин получил в Михайловском. Под впечатлением этого поэт пишет элегию «Под небом голубым страны своей родной…», в которой честно признается, что с равнодушием отнесся к вести о смерти женщины, так бурно вошедшей в его жизнь в дни одесской ссылки:
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
И все же Пушкин, остыв и успокоившись в Михайловской глуши, помнил прекрасную женщину и не мог не восхищаться ею. В ненапечатанной XVI главе «Онегина», написанной в Михайловском в ноябре 1826 года, поэт горько пишет:
Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой,
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день.
Почий, мучительная тень.
«Страсть к Ризнич, – пишет П. Е. Щеголев, – оставила глубокий след в сердце Пушкина своею жгучестью и муками ревности». Это была не любовь, а именно неутоленная страсть, рожденная «чувственной» натурой поэта и его огромным самолюбием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: