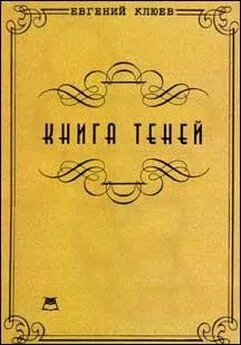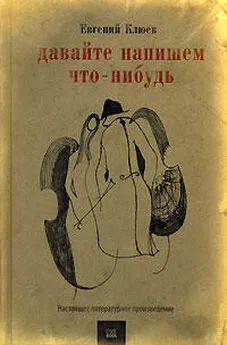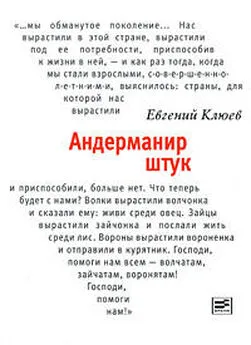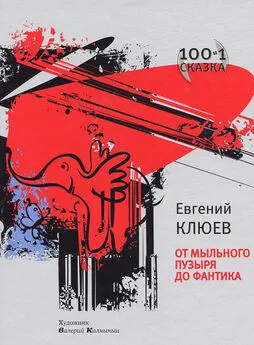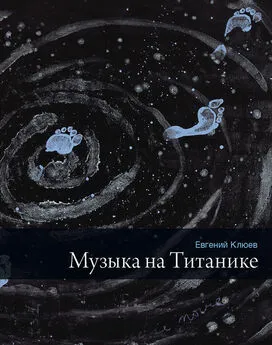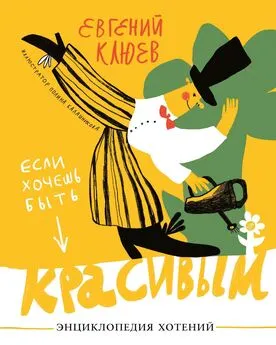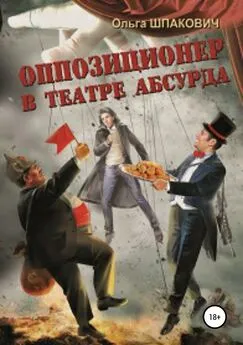Евгений Клюев - Теория литературы абсурда
- Название:Теория литературы абсурда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:УРАО
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-204-00231-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Клюев - Теория литературы абсурда краткое содержание
Это теоретико-литературоведческое исследование осуществлено на материале английского классического абсурда XIX в. – произведений основоположников литературного нонсенса Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла.
Используя литературу абсурда в качестве объекта исследования, автор предлагает широкую теоретическую концепцию, касающуюся фундаментальных вопросов литературного творчества в целом и важнейщих направлений развития литературного процесса.
Теория литературы абсурда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Меню каждого обеда с друзьями записывалось и хранилось, чтобы не попотчевать гостя дважды одним и тем же блюдом, хотя сам Кэрролл был весьма скромен в еде».
«После одного из таких обедов в мае 1871 г. Кэрролл сообщил Макмиллану, что изобрел специальную табличку (маркировка наша – Е.К.) , которая указывала каждому гостю его место за столом и кому какую даму сопровождать в столовую». [6]
По-видимому, после всех этих (и многих других, не названных здесь) фактов не остается ничего другого, как только признать Кэрролла страшным занудой и удивиться тому, как при этом он мог сделаться основоположником такого «сумбурного» явления, как литература абсурда.
Однако столь поспешная характеристика явно не выдерживает критики. Может быть, следовало бы вместо этого задуматься о том, не является ли предельно упорядоченная структура каждого кэрролловского текста и его «придирки» к языку следствием того же педантизма, но уже возведенного в Литературный Принцип? А отсюда – не есть ли литература абсурда как таковая всего-навсего искусство «быть занудой», то есть искусство упорядочивать то, что заведомо не может быть упорядочено?
Мы хорошо отдаем себе отчет в том, что прибегаем к запрещенному приему , отождествляя личность Доджсона с личностью Кэрролла, личность университетского профессора с личностью автора «Алисы», и что фактически позволили себе увлечься совпадением между образом жизни и текстами писателя. Даже ссылка на парадоксальное суждение Вирджинии Вулф о том, что у Кэрролла «не было жизни. Он шел по земле такими легкими шагами, что не оставил следов» [7], вряд ли может оправдать поставленный нами знак равенства. Но мы и не настаиваем на том, что имеем дело, с чем-то большим, чем простое совпадение, и что биографические подробности важны для нас в первую очередь (тем более, что биография Лира отнюдь и отнюдь не является биографией педанта!).
Однако тем не менее мы считаем себя вправе допустить, что литература абсурда в собственно технологическом смысле действительно есть вид мании – благородная разновидность синдрома навязчивых состояний.
Если принять мысль о том, что художественное произведение способно сообщить о чем-то большом и действительно важном, не называя его по имени, но лишь косвенно апеллируя к нему, то приоритет в этом смысле, пожалуй, действительно стоит отдать произведениям, принадлежащим литературе абсурда.
Прежде всего эти произведения (авторы которых страдают «литературным недугом» под названием мания педантичности – причем даже неважно, есть ли соответствующие признаки в характере каждого из писателей-абсурдистов, в поэлементной фактуре своей – при чрезвычайно высокой степени дробности элементов целого – почти не содержат намеков на дальнюю смысловую перспективу.
Отсюда и возможность трактовать их практически как угодно ,
«…придавая каждому из действующих лиц или эпизодов конкретный «исторический», «физиологический» или «телеологический» смысл…» И тем не менее, как справедливо отмечается здесь же: «… при всем интересе Кэрролла к конкретно-научной и общественно-философской мысли (интересе, получившем отражение в его творчестве) „Алиса“ прежде всего не богословский или философский трактат, не математическое или логическое сочинение, а произведение литературы, многими нитями связанное с литературно-историческим контекстом той поры». В этом плане следует вспомнить также и то, что сам Кэрролл неоднократно протестовал против попыток «вчитать» какой бы то ни было аллегорический смысл в его сказки, хотя при жизни писателя эти попытки не выходили за рамки чисто литературные.
Кэрролл не уставал повторять, что его сказки (особенно первая) возникли из желания «развлечь» его маленьких приятельниц и что он не имел в виду никакого «назидания». В своем творчестве Кэрролл сознательно выступал против однолинейности, характерной для аллегорических, «моральных» или дидактических книжек той поры. Снова и снова в ответ на вопрос критиков и читателей он повторял, что хотел лишь «развлечь» и что его нонсенсы не значат решительно ничего. В этой настойчивости видится прежде всего понятное желание писателя защититься от произвольных «аллегорий». Вероятно, следует принять во внимание и то, что в литературном контексте середины XIX века термин «развлечение» выступал неизменно как член оппозиции «развлечение – назидание» со всем комплексом связанных с нею понятий. Пытаясь подыскать ему аналог в системе понятий наших дней, мы приходим к «художественности», трактуемой весьма широко». [8]
Неинтерпретируемость абсурда, или его интерпретируемость в любых категориях, что одно и то же, суть проявление « признака художественности». В истории литературоведческой науки постепенно сложилось мнение, что чем глубже текст, то есть чем больше в нем «слоев», или уровней, и, стало быть, чем большему количеству интерпретаций он поддается, тем он «художественнее», – и с этой бесспорной мыслью мы совсем не склонны полемизировать. Приняв же ее, приходится действительно отдать пальму первенства литературе абсурда, допускающей практически бесконечное количество толкований. Условно говоря, литература абсурда есть наиболее « художественная»литература в составе художественной литературы в целом . По той же причине она не зависит от «времени и места» восприятия, то есть не приурочена ни к текущему моменту , ни к прошлому, ни к будущему – или опять же приурочена ко всему сразу. Абсурд (подобно фольклору), как уже говорилось выше, связан с наиболее глубинными структурами человеческой личности, с наиболее фундаментальным в ней, апеллируя к сущности, к природе личности, а не к ее социальным и проч. связям.
Упорядоченность абсурда суть проявление его литературности. В этом смысле литература абсурда есть еще и наиболее « литературная»в составе литературы в целом . Она демонстративно литературна («сделана», «выстроена», «структурирована»), так что «литературность» ее определенно показного свойства – и при этом часто издевательского: литература абсурда апеллирует прежде всего к самой литературе (воспроизводя ее в своем кривом зеркале) и только потом – к реальности.
Совмещение этих двух стихий и дает тот самый синтез, при котором текст, как это хорошо сказано в предисловии к «Topsy-Turvy World», «превращается в своего рода «математический символ» и «допускает бесконечное множество подстановок» [9].
Если рассматривать данное качество текста как оптимальное для художественной литературы в целом (а в том, что это так, мы не сомневаемся), то становится понятным по крайней мере один путь создания «доброкачественного» произведения изящной словесности и по крайней мере один достойный путь его интерпретации. Речь идет о предельно косвенном выражении дальней смысловой перспективы текста – через обширную систему мелких и чрезвычайно отчетливо представленных компонентов фактуры, каждый из которых в отдельности фактически не соотнесен с тематико-смысловой сферой произведения в целом. Какие бы то ни было прямые связи с реально существующими референтами полностью исключаются, текст становится нарочито-текстом , при каждом удобном (а может быть, и неудобном!) случае демонстрируя сугубую свою литературность, безреферентность и даже антиреферентность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: