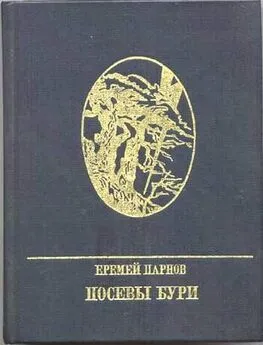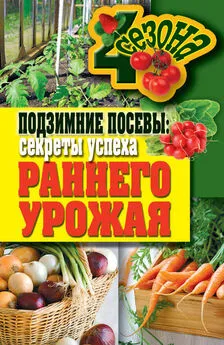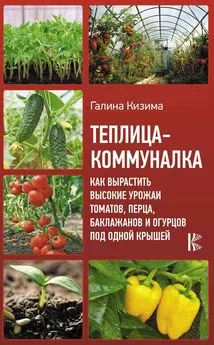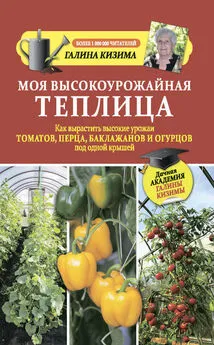Александр Гротендик - УРОЖАИ И ПОСЕВЫ
- Название:УРОЖАИ И ПОСЕВЫ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»
- Год:2002
- Город:Ижевск
- ISBN:5-7029-0366-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гротендик - УРОЖАИ И ПОСЕВЫ краткое содержание
Первый перевод с французского книги «Recoltes et Semailles» выдающегося математика современности Александра Гротендика. Автор пытается проанализировать природу математического открытия, отношения учителя и учеников, роль математики в жизни и обществе. Текст книги является философски глубоким и нетривиальным и носит характер воспоминаний и размышлений.
Книга будет интересна широкому кругу читателей - математикам, физикам, философам и всем интересующимся историческими, методическими и нравственными вопросами, связанными с процессом математического открытия и возникновения новых теорий.
УРОЖАИ И ПОСЕВЫ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вообще, мне кажется, что только таким способом я и учился у людей в тот период. Личный пример спасал положение там, где ни разъяснения, ни дискуссии не помогли бы. То, как мои друзья поступали в тех или иных ситуациях, самый их образ жизни, какая-то особая чувствительность, которой мне недоставало, - что-то из этого мне все-таки «передалось». В связи с этим, кроме Шевалле и Самюэля, я мог бы назвать еще несколько имен. Это прежде всего Дени Гедж (в группе «Survivre et Vivre» пользовавшийся большим авторитетом), Даниэль Сибони (напротив, державшийся в стороне от группы, и лишь искоса, пренебрежительно-насмешливо, следивший за ее развитием), Гордон Эдварде (при его участии это «движение» зародилось в июне 1970 г. в Монреале, а позже он творил чудеса усердия, добиваясь выхода американского издания бюллетеня «Survivre et Vivre» на английском языке), Жан Делор (врач, фактически мой ровесник, человек тонкий и душевный, который тепло относился ко мне, как и все наши друзья по «Survivre et Vivre»), Фред Снелл (тоже врач, из Буффало; он обосновался в Соединенных Штатах, и я в свое время гостил у него в загородном домике, когда приезжал туда по делам).
Из тех, кого я только что перечислил, пятеро были математиками, двое - врачами, и все - учеными. Итак, ближайший круг моего общения в те годы составляли по-прежнему ученые, и прежде всего математики.
(7). Предыдущий абзац, первый во всем введении, я сначала было вычеркнул целиком, а потом много раз пытался переправить. Выбор слов мне никак не удавался, и дело продвигалось как-то против шерсти. Явно прослеживалось влияние какой-то силы, которая побуждала меня поторопиться, поскорее закончить разговор об этой истории. Дескать, отчитайся об этом пустяковом случае для очистки совести, а там уже пора перейти к вещам серьезным. Что это, как не знакомые признаки внутреннего сопротивления? На этот раз оно пытается удержать меня от того, чтобы я внимательно рассмотрел этот эпизод и раскрыл для себя его значение, недвусмысленно говорящее о моей собственной внутренней позиции. Совершенно аналогичная ситуация уже была описана в начале введения (§2). Там речь шла об одном из определяющих моментов в математической работе, о минуте, когда противоречие, и весь его смысл, вдруг открывается твоим глазам. В этом случае роль внутреннего сопротивления играет инерция ума, который всегда неохотно расстается с ошибочным или недостаточно широким видением (самолюбия нашего это, однако же, не затрагивает). Но в жизни сопротивление более активно, а то и изобретательно, в то время как эта инерция в математике - просто пассивная сила. И вот когда я, ломая голову в поисках слов, преодолел внутреннее сопротивление, открытие явилось мне во всей своей ясности и простоте. И тогда - как будто тяжелый камень упал с души: наступила минута освобождения. И оно ощущалось острее, чем в математике. Но это было не просто преходящее чувство. Скорее, это пронзительное, благодарное восприятие того, что ты видишь в себе и перед собой. А видишь ты не что иное, как свободу: открытую дверь и сбитый замок.
(8). Как станет ясно в дальнейшем, эта двусмысленность отнюдь не «исчезла вскоре после моего пробуждения в 1970 г.». Тут прием отступления, типичный для моей тактики в этом вопросе. Пускай все приобретения с потерями остаются за демаркационной линией 1970-го г.; зато там уже, впереди, мое поведение будет безупречным!
(9). Это не совсем точно. Как выяснится дальше, среди моих ближайших коллег по крайней мере одно исключение да найдется. Здесь видна характерная «леность» памяти, зачастую предпочитающей как-то «замять» факты, если они не укладываются в привычные рамки.
(10). Например, я уже потерял счет случаям, когда, отправляя письмо коллеге или бывшему ученику (которого считал своим другом), я так и не получал ответа. Письмо могло быть каким угодно - математическим, деловым, просто личным. Похоже, что дело не в том, как эти люди относились ко мне лично. Скорее, это признак перемены нравов, ведь о том же мне говорили многие. Правда, им-то не отвечали незнакомые люди, да и речь шла в основном о письмах чисто математического содержания…
(п). Конечно, тут я мог и позабыть - не говоря уже о том, что моя тогдашняя «зацикленность» отнюдь не располагала ни к попыткам заговорить со мной о чем-нибудь в этом роде, ни к тому, чтобы подобный разговор мне запомнился. Одно несомненно: затронуть в беседе этот вопрос (даже не называя страха страхом…) само по себе было бы крайне необычно. Вероятно, в этом смысле ничего не изменилось и по сей день, в особенности в «высших кругах».
Значит ли это, что страх в свое время прокрался в нашу среду незамеченным? Если не считать Шевалле, который, по-видимому, обратил внимание на эту перемену в нашей обстановке еще в шестидесятые годы, среди моих многочисленных друзей-математиков «высшего ранга», по моим представлениям, только один человек понимал, что происходит вокруг. Это был Альдо Адреотти. С ним, с его женой Барбарой и с их детьми-близнецами я познакомился в 1955 г. (кажется, на вечере у Вейля в Чикаго). С тех пор мы с ним близко общались вплоть до «резкого поворота» в моей жизни в 1970 г., когда я ушел из мира математики. После этого я в какой-то мере потерял его из виду. Альдо был очень проницателен; свойственное ему исключительно живое, острое восприятие действительности ничуть не притупилось от общения с математикой и с «зацикленными» чудаками вроде меня. Природа
Примечания
наградила его редкой доброжелательностью: всякого, кто к нему обращался, он принимал тепло, с искренним участием. Этим он заметно выделялся среди моих друзей в математическом мире (да и не только в нем). Дружба у него неизменно шла впереди математики (впрочем, и в математике общих интересов у нас хватало). Он был в числе тех немногих коллег, с которыми я иногда говорил о себе; в ответ и он рассказывал мне кое-что из своего прошлого. Его отец, как и мой, был евреем: за это его преследовали в Италии при Муссолини, как меня - в гитлеровской Германии. Он всегда был готов ободрить и поддержать молодого ученого, при том, что начинающим математикам в ту пору становилось все труднее добиться «официального» признания. Наш мир неумолимо раскалывался на две части: на одном краю пропасти - знаменитости, известные математики, молодые ученые, подающие надежды, на другом - обделенные судьбою простые смертные. Но Альдо, прожив в нем годы, все же не разучился уважать в человеке человека, а не почетную должность или мундир с отличиями. Сам Альдо был необыкновенно милым, душевным человеком, он неизменно располагал к себе с первой же встречи.
Думая об Альдо, я вспомнил еще об одном друге - Ионеле Букуре, который исчез из моей жизни столь же внезапно и преждевременно. Здесь, как и с Альдо, меня гораздо больше огорчает потеря друга, чем собеседника на математические темы. Доброта уживалась в нем бок-о-бок с необычайной застенчивостью; он, казалось, при любых обстоятельствах спешил стушеваться, отступить в сторону. Для меня загадка, как человек, настолько далекий от каких бы то ни было честолюбивых мыслей и побуждений (принимать важный вид, пуская окружающим пыль в глаза, было отнюдь не в его привычках!), оказался в конце концов деканом Факультета Наук в Бухаресте. Вероятнее всего, он просто не допускал и мысли о том, что может позволить себе отказаться от ответственности. К солидной должности он отнюдь не стремился: этот груз взвалили ему на плечи (довольно крепкие, нельзя не признать) местные власти. Он был сыном крестьянина (это обстоятельство, несомненно, сыграло свою роль в стране, где так много значило «классовое происхождение»), человеком простым и здравомыслящим. Конечно, страх, окружавший в те дни фигуру знаменитого ученого, не мог ускользнуть от его наблюдательности. Но в его глазах это, безусловно, было всего лишь неотъемлемым атрибутом положения у власти. Не думаю, однако, чтобы он сам мог вызывать страх у кого бы то ни было: уж во всяком случае, не у своей жены Флорики и не у сына Александра. Коллеги и студенты, по слухам, тоже никогда его не боялись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: