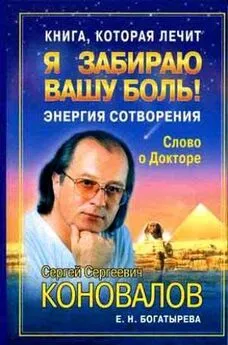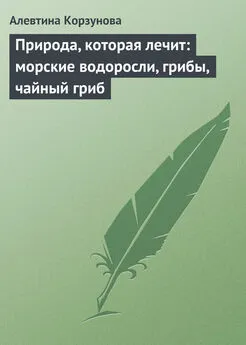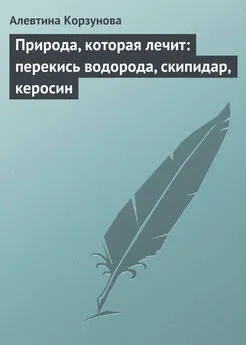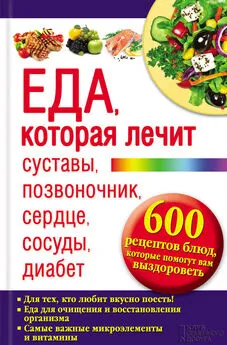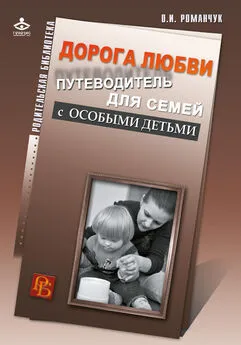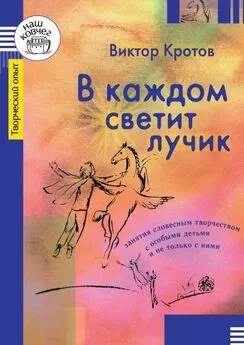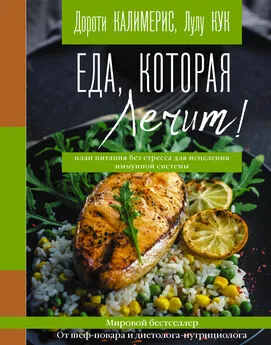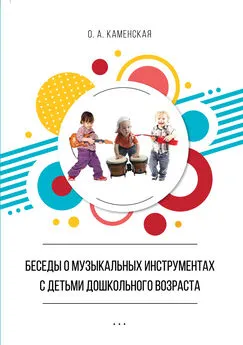Мария Дименштейн - Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми
- Название:Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Дименштейн - Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми краткое содержание
Книга будет полезна специалистам, работающим в сфере помощи детям с нарушениями развития, родителям таких детей, а также студентам - психологам, специальным педагогам и др.
Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Мостик доверия» между ребенком и педагогом – первый шаг к развивающим занятиям [9]
Е.В. Моржина
Никита пришел к нам в Центр лечебной педагогики в возрасте пяти лет. Он был тогда очень тревожным, напряженным, истощаемым (5-10 минут в одной комнате с педагогом – и крик, протест, попытки убежать к бабушке). Никита уходил от общения, любил подолгу смотреть в окно, крутить веревочку перед глазами. Речью сам не пользовался, на обращенную к нему речь со стороны родителей откликался редко, выполняя лишь простые просьбы. Ранее Никите был поставлен диагноз туберозный склероз.
Общаться с Никитой вначале было очень сложно: взгляд мальчика, не задерживаясь, скользил по людям, предметам; тактильного контакта Никита избегал. Сначала я просто ходила за ним следом. Никита перемещается по комнате, а я – за ним.
После домашней обстановки ребенок оказался в новом пространстве. Здесь, в этом новом пространстве, есть другой – некто, тенью следующий за ним по пятам. Моя задача как педагога на этом этапе – пытаться создавать разные ситуации, в которых ребенку было бы комфортно. И ждать. Терпеливо ждать, когда между мной и Никитой возникнет нечто, похожее на доверие. Это трудная задача. Никита перемещается по комнате хаотично и с виду бесцельно. Но эта комната, ее предметы, обстановка чем-то заинтересовывают его. Интерес этот недолог, внимание на одном предмете удерживается очень короткое время, и быстро наступает насыщение. Насыщает и присутствие рядом педагога, который сопровождает действия Никиты комментарием и пытается либо повторить эти действия, либо спровоцировать Никиту на какое-то простое взаимодействие. У процесса насыщения есть предел, до которого нельзя доводить. Пресыщение чревато срывом. Срыв нужно предупредить. Как? Тут вряд ли есть формальные показатели.
Лечебный педагог должен ощущать близость ребенка к пределу интуитивно. И интуитивно искать выход из положения. Он будто бы на поверхности: если ребенку надоело в этом помещении, надо, чтобы он переместился в другое. Нужно как-то позвать Никиту в другую комнату. Но на зов в обычном смысле слова он не реагирует. За руку брать себя не позволяет. Поэтому я просто пытаюсь наметить другое пространство и как-то просигналить: там есть что-то интересное. К примеру, открываю дверь в ванную и начинаю пускать мыльные пузыри. Или выхожу в коридор и играю на флейте. Это и есть «зов», связанный с новыми звуками, новыми формами, новыми движениями.
Вот ребенок переходит в другую комнату. Подходит к окошку. Я пристраиваюсь рядом и говорю – будто бы сама себе: «Что там, за окошком?» Я не жду ни ответа, ни какой-нибудь определенной реакции. Просто фиксирую, как проявляет себя мальчик в данном случае. И проявляет ли. Малейшее ответное «движение» – достижение.
В каждом случае с новым ребенком контакт между ним и лечебным педагогом возникает по-своему. Педагог старается «двигаться» навстречу ребенку. Ребенок каким-то образом «выходит» из круга своей замкнутости, изнутри самого себя, и тоже «движется» навстречу педагогу. И в какой-то момент – через несколько часов, или через неделю, или через два-три месяца – между ребенком и взрослым выстраивается тонкий и хрупкий мостик доверия. По нему, по этому мостику, взрослый может добраться до малыша: заглянуть ему в глаза, погладить по плечу, а потом – поиграть. Это игры, невозможные раньше, – посадить его на колени, чтобы он «скакал», покатать на мяче, предложить ему возиться в воде, в песке, мять глину...
С этого момента – когда возникает доверие –занятия с Никитой приобретают некоторую структуру. До этого я внимательно наблюдала за мальчиком, пытаясь уловить, понять, угадать, что может ему нравиться, что доставляет удовольствие, а что напрягает, каких ситуаций Никита избегает. Если правильно угадаешь путь к этому островку приятия, на нем можно закрепиться и все время расширять этот островок как совместные владения. Никите, например, нравилась вода. Значит, выбираться в мир надо «по воде», привязывая к ней всевозможные действия и виды деятельности.
Вот мы с Никитой приходим в «мокрую» комнату (комната с ванной и всем, что может пригодиться для игры с водой). Никите нравится опускать руки в воду, нравятся брызги. Вода из душа льется ему на ладони. А еще – на ладони педагога, на игрушки вокруг ванночки. Это новая игровая ситуация. Сейчас она распространяется не только на ладони Никиты, но и на игрушки, на педагога. Они «допущены» в эмоциональное поле мальчика. И это уже много. Мне тоже нравится, когда водяные брызги попадают мне на ладони. Мы заражаем друг друга своим отношением к воде, и у нас впервые возникает разделенное переживание.
От игры с водой можно перейти к рисованию на поверхности ванны. Ванна была наполнена водой, а потом водичка уходит, исчезает. Но тут вдруг появляются краски. Они красиво расплываются на поверхности мокрой ванны. Ребенок смотрит на это зрелище, и видно: он захвачен происходящим. Это новое ощущение. Теперь у нас с ним есть еще одно любимое занятие –«распускать» краски на дне мокрой ванны. И чтобы перейти к нему, требуется все меньше времени на простую игру с брызгами.
У таких детей, как Никита, часто бывают проблемы с чувствительностью. Любые прикосновения их раздражают. Если дети избегают что-либо брать в руки, то возникает препятствие в овладении какой бы то ни было ручной деятельностью. Такие дети, естественно, не рисуют и не пишут, прикосновение к рукам может вызвать бурный протест, так как ладони – чувствительная область.
Но вот капельки падают Никите на ладошку, и это не вызывает отторжения. Ведь все происходит в игре, внутри атмосферы доверия. Никита принял эту ситуацию в целом, и поэтому он уже не может испытать негативного чувства, когда на кончик мизинца попадает не только водичка, но и капля краски. От этой окрашенной капли на мизинце всего один шаг до окрашенной ладошки. А окрашенная ладошка может делать отпечатки. Это значит, что в наши игры включаются руки. Оставить отпечаток, цветной след на стенке ванны – это уже шаг к ручной деятельности.Это огромный сдвиг.
Итак, я фиксирую наше достижение: Никита начинает использовать свои руки в игре. Но пока на очень малом пространстве. Теперь наша задача – это пространство расширить. Раньше мы расширяли «подвластное» мальчику пространство за счет того, что ходили из помещения в помещение. Теперь нужно другое. Нужно как-то переместиться из ванночки на бумагу.
Говорить Никите: «А ну-ка, садись! Давай порисуем!» совершенно бессмысленно.
Я пристраиваю стол к ванной. Вплотную. Мы играем во все те же отпечатки. При этом я что-то рассказываю. Что-то очень простенькое, но сюжетное. Например, «Ехал Никита по дорожке» (отпечаток на стене в ванночке, другой отпечаток). «Ехал-ехал – и до леса доехал!» (мой отпечаток перемещается на мокрую бумагу, лежащую на столе).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: