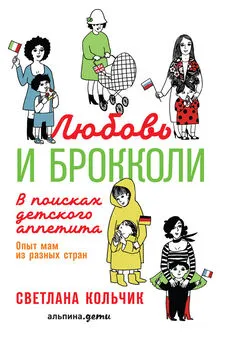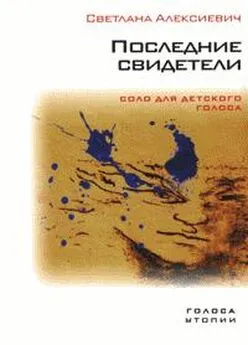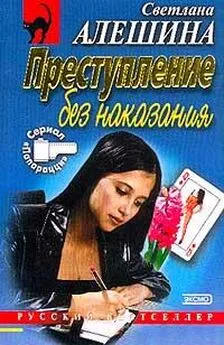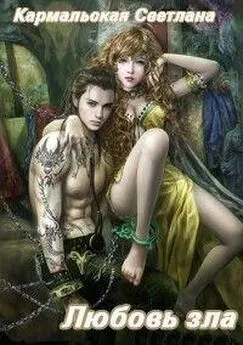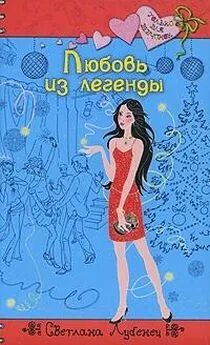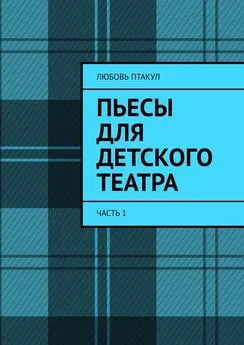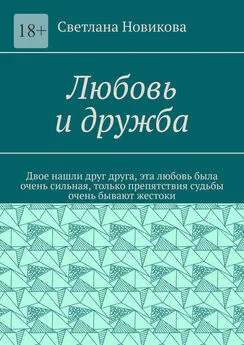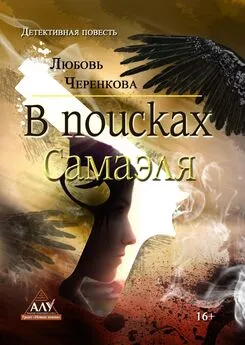Светлана Кольчик - Любовь и брокколи: В поисках детского аппетита
- Название:Любовь и брокколи: В поисках детского аппетита
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-5256-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Кольчик - Любовь и брокколи: В поисках детского аппетита краткое содержание
Чтобы узнать, как подружить ребенка с едой и какие есть подходы к детскому питанию в России и странах Европы, журналист Светлана Кольчик пообщалась с экспертами в области питания, ведущими российскими и европейскими педиатрами, психологами, диетологами и обычными родителями. Эта книга – результат ее путешествия по пяти странам в поисках ответа на вопрос, как помочь детям и нам самим сформировать более здоровые отношения с едой.
Любовь и брокколи: В поисках детского аппетита - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Он у меня застрял в «углеводной фазе», – жалуется она. – Ест в основном макароны. Иногда блины и пельмени. У него это с раннего детства, может быть, потому, что мы все время пихали в него еду. И кормили насильно вплоть до школы. Включали телевизор, чтобы хоть как-то стимулировать процесс. Сам он не ел НИЧЕГО!
В детстве я сама никогда не хотела есть. Потому что еда тоже предлагалась мне постоянно, – говорит Даша. И добавляет, что именно поэтому ей сейчас хочется хотя бы предоставить своим детям за столом чуть больше выбора. Даже если речь идет о не очень ими любимых утренних кашах.
Не так давно в гостях у друзей я наблюдала такую сцену. Трехлетнюю девочку, которая только что пришла из детского сада, усадили ужинать. Остальные члены семьи (присутствовали мама, бабушка, няня и гостившая в тот момент тетя) есть пока не собирались. Они занимались другим: исполняли вокруг ребенка ритуальный танец. Перед девочкой стояла большая тарелка – взрослая порция котлет с гречневой кашей. Таким количеством вполне мог бы наесться голодный мужчина. Бабушка принялась кормить внучку с ложки. Девочка запротестовала. Она хотела есть сама. Проглотив кусочек, она отложила ложку: то ли задумалась, то ли была не голодна.
– Милая, почему ты не ешь? – тут же забеспокоилась бабушка. – Надо кушать!
– Ты же из садика пришла, должна быть голодной, – подключилась тетя. – Ты же хочешь вырасти большой и здоровой?!
Девочка не реагировала.
– Телефон? – вмешалась мама.
Малышка радостно закивала. Однако, получив телефон с мультиками, о еде она забыла вовсе. Но одна котлета и половина порции каши с горем пополам и обещаниями шоколадки были-таки засунуты ей в рот.
Вспоминаю рассказы своей мамы о том, как меня, по комплекции весьма упитанного ребенка, кормили в раннем детстве. Сначала меня якобы отвлекали сказками. Постепенно я теряла бдительность и послушно открывала рот. Куда благополучно засовывалось то, что в данный прием пищи «ребенок должен был скушать».
«Ребенок должен кушать»
«Ребенок должен кушать». В нашей культуре эта мантра по-прежнему живет и здравствует. Для поколения наших бабушек «кушать» следовало во что бы то ни стало, а пища – из той, что была доступна, – должна была быть максимально калорийной. Или, как тогда говорили, питательной. Как, например, незабываемая (и с точки зрения пищевой ценности – весьма сомнительная) манная каша.
По мнению многих диетологов, манная каша, хоть она и содержит немало растительного белка и минеральных веществ (в случае, если крупу не переваривать), далеко не самая полезная еда. В манке 70 % крахмала, много клейковины, мало клетчатки, да еще вдобавок там есть вещество фитин, которое мешает всасыванию кальция. Поэтому гастроэнтерологи не рекомендуют кормить манной кашей малышей до года, а детям до трех лет советуют давать ее в ограниченном количестве.
Кто тогда готов был прислушиваться к реальным потребностям детей? Задумываться об их чувствах? О том, чтобы без повода не вторгаться в их личное пространство?
Родители – и система – были всегда правы.
Наверное, почти у каждого из тех, кому сейчас между тридцатью и сорока, сохранились яркие воспоминания из советского детства, связанные с едой. В частности, с ее добыванием. Память ставит розовые фильтры, поэтому даже то, что было полным абсурдом, я, например, вспоминаю, может быть и не с ностальгией, но все равно – странным образом в позитивном ключе.
Вот, например, конец 1980-х. Я прихожу из школы, начинаю открывать дверь ключом (который, как у многих детей моего поколения, висит на груди на шнурке). И тут в холл врывается возбужденная соседка. Она объявляет на ходу, что в магазине у метро «выбросили», как тогда выражались, сливочное масло. Мне хочется порадовать маму, я выгребаю карманные деньги и бегу в магазин. Очередь выстроилась кругами, хвост простирается далеко на улицу. Я занимаю очередь: на руке мне пишут номер. Добрая тетя, занявшая за мной, обещает «придержать место» и разрешает сбегать домой. Я так и делаю – за те три с половиной часа, что пришлось ждать, чтобы купить килограмм масла (больше в одни руки не отпускали), мне удалось поесть и сделать часть уроков. Но какое я чувствовала удовлетворение, неся домой тот вожделенный килограмм!
И, кстати, сливочное масло – хлеб с толстым (!) его слоем, слегка посыпанный солью, – до сих пор моя любимая еда. И даже нечто большее. Это моя comfort food [1] Букв. «комфортная пища» ( англ .); имеется в виду привычная еда, которая возвращает в детство, в личную зону комфорта.
– пища, способная быстро утолить голод и заодно снять стресс. Я замечаю за собой, что всегда держу дома сливочное масло с запасом. И когда оно заканчивается, начинаю нервничать и срочно бегу в магазин купить две-три пачки впрок.
Еще один эпизод. Лето, тоже конец 1980-х. Я иду к метро за мороженым и вижу у продуктового магазина толпу народа. На этот раз «выбросили» конфеты: шоколадные, элитный сорт, который нам изредка доставался только в «заказах» – наборах дефицитных продуктов, которые раз в месяц получал на работе отец. Что-то вроде «Красной Шапочки» или «Золотого петушка». Мне на следующее утро уезжать в пионерский лагерь и надо собирать вещи. Но конфет очень хочется. И я занимаю очередь, бегу домой, получаю от мамы деньги и спустя три с лишним часа триумфально возвращаюсь с 2 кг конфет. Мама разрешает взять часть в лагерь, где я потом всю смену, тайком (после отбоя, в темноте) лакомлюсь конфетой. Именно ОДНОЙ. Причем не жую эту блаженно-приторную шоколадную массу, а максимально медленно ее рассасываю. Чтобы растянуть удовольствие (я, кстати, до сих пор ем шоколад таким способом). Тех 2 кг конфет нам хватило на три месяца, если не дольше.
Живые тамагочи
Перенесемся на четверть века вперед. Мы сидим за столом: я, мой муж Ханс и четырехлетний сын Боря. Боря вяло ковыряется в тарелке с гречневой кашей. Я делаю вид, что с аппетитом ем, и стараюсь не смотреть в его сторону. Но в голове у меня не утихает монолог. «Достаточно ли ребенок получил сегодня питательных веществ? Белков? Клетчатки? Не будет ли у него потом болеть животик? Удастся ли мне впихнуть в него кусочек свеклы или еще какой-нибудь овощ? И как это провернуть незаметно для Бори и для мужа, который немедленно сделает осуждающее лицо? Интересно, съел ли сын в саду хотя бы четвертинку яблока на полдник? А если пообещать на десерт мороженое, может быть, он сподобится наконец попробовать зеленую фасоль?.. Но мороженое – это сахар. Так, надо посчитать, сколько сахара малыш сегодня уже получил за день…»
И так далее. Между тем, поковыряв кашу, Боря встает из-за стола.
– Ты куда это собрался? – возмущаюсь я. – А каша?!..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: