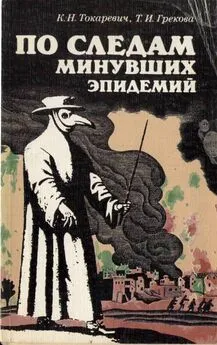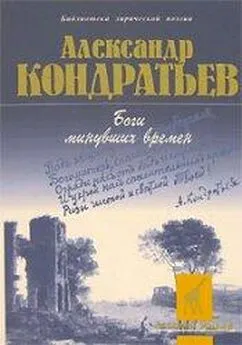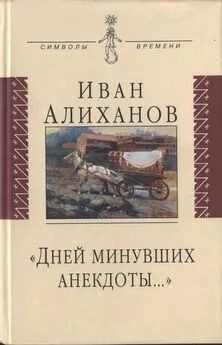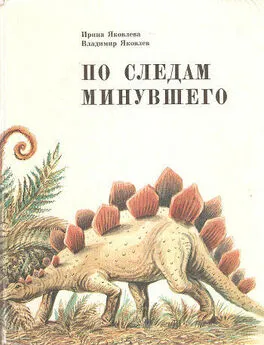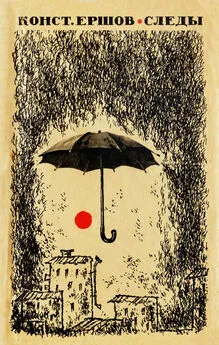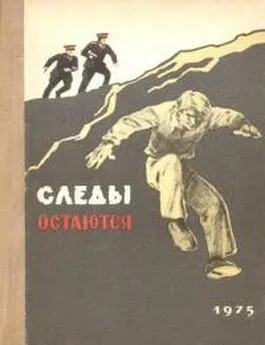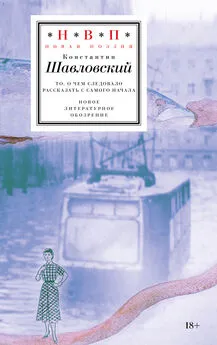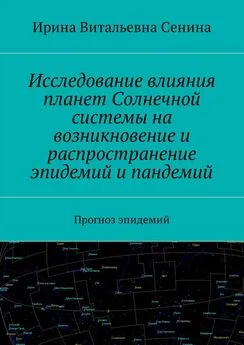Константин Токаревич - По следам минувших эпидемий
- Название:По следам минувших эпидемий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1986
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Токаревич - По следам минувших эпидемий краткое содержание
Не одну сотню лет люди считали, что холера, чума и тому подобные болезни — это проявления божьего гнева. О том, как эпидемии отражались в художественной литературе, и о борьбе науки с мракобесием и религиозными взглядами повествует эта книга.
Рассчитана на массового читателя.
Эпидемии инфекционных болезней издавна потрясали человеческое воображение внезапностью возникновения и высокой смертностью. Наши предки связывали их с проявлением божьего гнева или колдовством врагов. Нередко обезумевшая толпа убивала мнимых чародеев. Страницы истории являются наглядной иллюстрацией борьбы науки с религиозными взглядами на природу болезней. Губительные эпидемии ушли в прошлое, но некоторые инфекции затаились, изменили свое лицо. И перед современной медициной встали новые задачи. Об этом рассказывают в своей книге доктор медицинских наук, профессор-эпидемиолог К. Н. Токаревич и кандидат биологических наук Т. И. Грекова.
Рецензенты — доктор философских наук М. И. Шахнович, доктор медицинских наук В. А. Постовит
По следам минувших эпидемий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Народная фантазия создавала воображаемый, очеловеченный облик оспы. В России, например, эту болезнь представляли то в образе фантастического существа, которое ходит по ночам, с совиными очами и железным клювом, то в виде женщины, милость которой старались заслужить особым почитанием, именуя ее «Оспой Ивановной». Для предупреждения тяжелых заболеваний одевали по-праздничному детей, вели их к больному оспой, кланялись, величали невидимую женщину «Оспицей-матушкой», прибавляя при этом: «Прости нас, грешных!» Известный историк медицины Л. Ф. Змеев приводит такую формулу: «Оспица, прости, Африкановна, чем я перед тобою согрубил, чем провинился». Обращение к «оспице» сопровождалось иной раз троекратным поцелуем больного. В знак особого уважения к «Оспе Ивановне» избегали сквернословия, посещая заболевших.
Первым обратил внимание на заразность оспы великий восточный врач Абу Али ибн Сина, известный в Европе под именем Авиценны (980—1037 гг.). А возбудитель болезни в виде элементарных телец вируса был описан Э. Пашеном только в 1906 году, то есть на несколько десятилетий позже открытия возбудителей многих бактериальных инфекций. Еще в XVIII веке известный буржуазный экономист Томас Мальтус писал в своем труде «Опыт о законе населения»: «Оспа, на которую можно смотреть как на повальную болезнь, самую распространенную и самую опустошительную в Европе настоящего времени, есть в то же время самая необъяснимая болезнь, хоть в некоторых местностях она возвращается периодически, через известные промежутки времени». Следует отметить при этом, что сам Мальтус не видел в эпидемиях оспы большой беды, а, напротив, считал их естественным и полезным фактором регуляции численности населения, которое» по его мнению, возрастало непозволительно быстрыми темпами.
К счастью, — большинство врачей не разделяли подобных взглядов и старались найти действенные меры борьбы с эпидемиями. Что же касается непосредственно оспы, то специфическая ее профилактика была выработана эмпирическим путем задолго до выяснения ее этиологии или, выражаясь языком обыденности, причины возникновения болезни.
В рассказе Дмитрия Кантемира, посвященном истории Оттоманской империи, упомянуто, что еще в XVI веке стамбульские торговцы живым товаром покупали только таких девушек, у которых на руке или бедре были знаки оспенной прививки, сделанной в раннем детстве.
Лоуренс Грин в книге «Последние тайны старой Африки» указывает, что некоторые африканские племена на протяжении многих веков передают из поколения в поколение секрет противооспенной сыворотки, надежно предохраняющей от заболевания. В то же время с лечением оспы связано множество самых различных суеверий. Например, негры-эве расчищали пространство за селением, насыпали там невысокие курганы и ставили глиняные фигурки по числу жителей, чтобы дух оспы принял их за людей. А чтобы он мог подкрепиться, как в настоящем селении, выставляли горшки с пищей и едой. На дороге строили баррикаду, чтобы окончательно обезопасить жилье от вторжения оспы.
В историческом романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» описан один из способов «профилактики»: «…Исстари ведут здесь этот обычай, коли заслышат по соседству повальные немочи. Девки запахивают нить вокруг слободы; где сойдется эта нитка, там зарывают черного петуха и черную кошку живых… Немочь будто не смеет пройти через нить». Чтобы «запутать» оспу, в деревнях выносили умерших не через дверь, а через окно, полагая, что это обеспечит безопасность остальных обитателей дома.
Японец Яэко Ногами в рассказе «Шхуна Кайзин-Мару» приводит древнее поверье о том, что лучшим талисманом против оспы является мясо обезьяны. Даже маленький его кусочек якобы способен предотвратить заболевание.
В народе существовали различные суеверные представления о возможности «наведения» оспы злыми людьми, с чем были связаны и драматические события. Одно из них было вызвано московским указом 1680 года — особым наставлением о мерах против закоса оспы во дворец. Указ этот запрещал являться ко двору в течение определенного времени людям из тех домов, «где будут больные огневою или лихорадкою или иными какими тяжелыми болезнями». Это наставление, признававшее, как видно, заразительность оспы, было издано по совету доктора Даниила фон Гадена, которого называли проще — доктором Данилою. Он был лейб-медиком царя Федора Алексеевича, старшего сына Алексея Михайловича. После смерти Федора, в первый год царствования Иоанна и Петра Алексеевичей, разыгрался Стрелецкий бунт. В народе кричали, что царя Иоанна убили. Когда оба царя вышли к народу, подстрекатели бунта стали внушать толпе, что царя Федора извели чарами лекари. Доктор Даниил двое суток прятался в лесу в лаптях, в нищенском платье, с котомкой за плечами. Голод заставил его вернуться в город, в Немецкую слободу, где он был узнан, схвачен и замучен в застенке.
Указ 1680 года многократно повторялся в различных вариантах на протяжении следующего — восемнадцатого столетия. Основной смысл этих распоряжений сводился к обереганию от оспы государей и их семей, так как болезнь не делала исключений для обитателей дворцов и не раз изменяла порядок престолонаследия. Можно напомнить, что в апреле 1719 года от оспы умер цесаревич Петр Петрович — сын и прямой наследник Петра I (он погребен в Александро-Невской лавре). В 1730 году погиб от оспы Петр II — внук Петра I, сын цесаревича Алексея Петровича.
Разумеется, можно привести немало примеров гибели от оспы в различные эпохи и зарубежных коронованных особ: жертвой этой болезни пали римский император Марк Аврелий и курфюрст баварский Максимилиан Иосиф; умер от оспы французский король Людовик XV, заболев ею вторично в возрасте 64 лет.
К концу XVII и в начале XVIII века от оспы ежегодно умирало около полутора миллионов человек, а болело около десяти миллионов в год.
В первой половине XVIII столетия оспенная эпидемия в столицах европейских государств по существу не прекращалась. Исключительно широкая распространенность этой болезни в европейских странах породила поговорку: «Оспа и любовь минуют лишь немногих!» На протяжении столетий оспа выступала как привычная болезнь, и даже ее эпидемии не вызывали широких волнений народа, которые обычно стихийно возникали при появлении холеры и чумы. Это была своя, как бы домашняя, обыденная болезнь, которая не щадила жителей всех стран и континентов. И только на Каймановых и Соломоновых островах и острове Фиджи она никогда не встречалась.
Неудивительно, что в той или иной форме упоминания об оспе имеются в художественных произведениях писателей всех времен и народов. В исторической повести А. Говорова «Жизнь и дела Василия Киприанова, царского библиотекариуса», рисующей жизнь Москвы в 1716 году, представлена следующая картина: «Прошла черная оспа, крылом адовым задела. Были ведь года, когда Москва от напасти этой сплошь вымирала, а тут мор прошел поулочно, где повезло — никто не болел, а где не повезло — целые порядки лежали мертвецов».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: