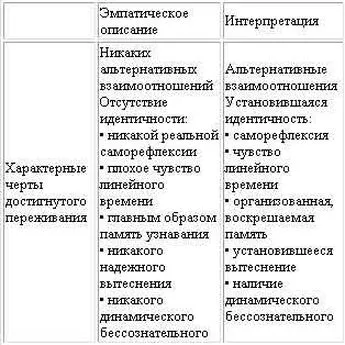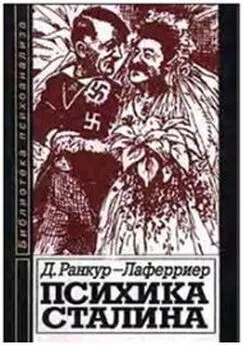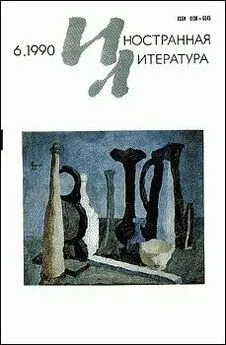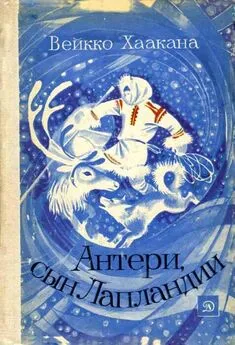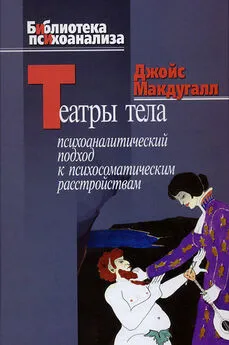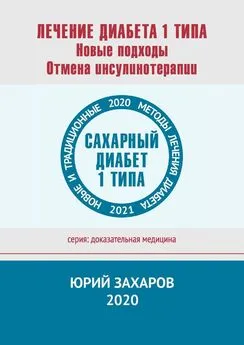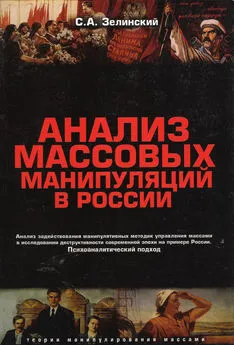Вейкко Тэхкэ - ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход
- Название:ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический Проект
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-8291-0112-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вейкко Тэхкэ - ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход краткое содержание
Вейкко Тэхкэ.
Психика и её лечение:
психоаналитический подход
В данной монографии дается описание как общей психоаналитической теории развития человеческой психики, так и теории природы и элементов психоаналитического понимания, и приложения двух этих теорий к психоаналитическому лечению пациентов, представляющих психотический, пограничный и невротический уровни психопатологии. Книга финского психоаналитика признана специалистами лучшим на сегодняшний день отражением западного психоанализа.
Книга адресована как профессиональным психологам, так и всем тем, кто интересуется данной тематикой.
Veikko Tahka. MIND AND ITS TREATMENT: A Psychoanalytic Approach
«Психика и ее лечение» Вейкко Тэхкэ – результат более чем сорокалетнего научного опыта финского психоаналитика, исследователя, клинициста и преподавателя – в действительности не одна, а скорее две книги. Во-первых, это книга о развитии психики, динамическом психическом эволюционном процессе с его самых ранних начал до достижения личной автономии и эмансипации, то есть взрослости. Со всеми возможностями на этом пути для неадекватного, нарушенного и отклоняющегося развития или недоразвития. О возникновении множества психических расстройств психопатологического спектра, явно психотических, многообразно пограничных и типично невротических. И во-вторых, эта книга о лечении, психоаналитической терапии этого множества недугов.
ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В отличие от озабоченности сохранением подвергающегося опасности переживания Собственного Я, наиболее важной в фазово-специфических откликах аналитика на психотических пациентов, фазово-специфические отклики аналитика на пограничного пациента скорее включают в себя возрастающую заинтересованность специфической природой переживания Собственного Я пациентом. Этот относительный сдвиг от озабоченности к заинтересованности параллелен сдвигу в акцентировании с комплиментарных к эмпатическим среди информативных откликов аналитика на пациента. Как будет показано ниже, передача аналитиком этой заинтересованности и своего возникающего в результате понимания пациенту представляется тем специфическим способом приближения аналитика к пациенту, который ведет к тому, чтобы он был принят пациентом в качестве нового эволюционного объекта, с которым может быть продолжена структурообразующая интернализация.
Это не следует понимать так, что более не будет надобности в атмосфере поддержки, требуемой в качестве замещения неинтернализованных структур пограничного пациента. Однако, в отличие от психотических пациентов, главной целью поддерживающего окружения более не является обеспечение материала для установления и поддержания диалога между пациентом и аналитиком, но скорее обеспечение пациента генеративной защитой и заместительной структурой до тех пор, пока структурное развитие в ходе лечения постепенно не сделает такую защиту и замену ненужными.
Такая атмосфера поддержки наилучшим образом обеспечивается терпеливым, заинтересованным и уважительным присутствием аналитика в сеттинге, которое остается по существу одним и тем же на каждой сессии. Как правило, активное удовлетворение инфантильных потребностей и желаний пациента не требуется и не рекомендуется. Как подчеркивалось выше и будет показано в последующих частях книги, возобновленные процессы эволюционной ин-тернализации, интроекции, а также идентификации будут на пограничном уровне патологии мотивироваться в первую очередь передачей аналитиком заинтересованности и понимания способа переживания пациента, а не удовлетворением, неотъемлемо присутствующим в атмосфере поддержки.
Идеализация
В отличие от преобладающей точки зрения, я предпочитаю не связывать идеализацию специфическим образом с интересами Собственного Я, нарциссизмом или «эго-либидо», как отличающимися от интереса к объекту или «объектному либидо». Я также не присоединяюсь к традиционному взгляду на идеализацию как на главным образом защитный процесс. Скорее мне хотелось бы определить идеализацию как тот способ, каким переживаются позитивно катектированные репрезентации Собственного Я и объекта до достижения константности Собственного Я и объекта. Либидинальные взаимоотношения могут основываться лишь на идеализации до тех пор, пока интеграция индивидуализированных образов Собственного Я и объекта не сделает возможными и мотивированными любовь и восхищение на индивидуальном уровне переживания. Я согласен с Кернбергом (1975,1976), что, по всей видимости, существуют более примитивные и более зрелые «формы» идеализации в зависимости от уровня нормального развития или его патологических остановок и искажений. Однако скорее, чем постулирование идеализации как «механизма» прогрессивного взросления, я предпочитаю точку зрения, согласно которой идеализация как переживание мотивируется и выглядит по-разному в зависимости от уровня структурализации, достигнутого в развитии мира переживаний пациента.
Разделяемая многими специалистами точка зрения на Идеализацию как на исключительно или главным образом защиту и предохранительную меру против агрессии производит впечатление взрослообразной «генерализации назад», основанной на ежедневном клиническом опыте с Депрессивными невротиками, которые используют идеализацию как реактивное образование против своих агрессивных объектно-направленных желаний. Согласно сходной линии рассуждения, считается, что самая первая идеализация объектной репрезентации (то есть первоначальное возникновение образа «абсолютно хорошего» объекта) мотивирована защитой и предохранением против преследующих «абсолютно плохих» объектных образов (Klein, 1946; Rycroft, 1968; Kernberg, 1975,1980). Создается картина Собственного Я, пытающегося защищать себя от угрожающих «абсолютно плохих» объектных переживаний путем построения идеализированного «абсолютно хорошего» объектного образа для своей защиты. Это будет делать идеализацию либо тем механизмом, который вызывает состояние расщепления (Rycroft, 1968), либо как минимум одной из вспомогательных защит, способствующих расщеплению (Kernberg, 1975).
Согласно точке зрения, представленной в моей более ранней работе (Tahka, 1984) и в части 1 данной книги, последовательное появление образов «абсолютно хорошего» и «абсолютно плохого» объекта, а также их главные роли в защите дифференцированности представляются, по-видимому, совершенно противоположными тому, что предполагается выше названными авторами. При условии что первые репрезентации Собственного Я и объекта будут становиться дифференцированными как формации чистого удовольствия (т. е. как «абсолютно хорошие»), образ «абсолютно плохого» объекта должен создаваться позднее для обеспечения идеационной репрезентации фрустрации, которая на этой стадии становится психически представленной как агрессивный аффект, угрожающий разрушить образ «абсолютно хорошего» объекта, от которого исключительно зависит существование дифференцированного переживания Собственного Я. Формирование образа «абсолютно плохого» объекта, который обеспечивает цель для агрессии и таким образом связывает агрессию младенца с первой идеационной репрезентацией фрустрации, будет происходить как необходимая защита для сохранения образа «абсолютно хорошего» объекта и посредством этого для продолжения субъективного существования ребенка. Однако, хотя в начале жизни зло, таким образом, по-видимому, появляется скорее для защиты добра, а не наоборот, я стану называть такую последовательность событий не защитной, а высоко адаптивной. Независимо от того, что появляется первым, и «абсолютно хорошие», и «абсолютно плохие» базисные эмпирические единицы необходимы как предпосылки для любых последующих структурообразующих развитии.
До достижения константности Собственного Я и объекта растущий индивид необходимо переживает свой мир функциональным образом, характеризуемым крайними сдвигами в его объектном переживании от «абсолютно хорошего» к «абсолютно плохому». «Абсолютно хороший» объект идеализируется как превосходный поставщик удовлетворения, но так как он все еще переживается как находящийся в полной собственности и контролируемый всемогущий слуга, его еще нельзя любить как независимого индивида, чьи услуги будут не самоочевидными, но обусловленными и зависящими как от поведения ребенка, так и от благорасположения объекта. Само качество «абсолютно хорошего» включает понятие эмпирического совершенства, основанное на крайней степени нереалистической идеализации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: