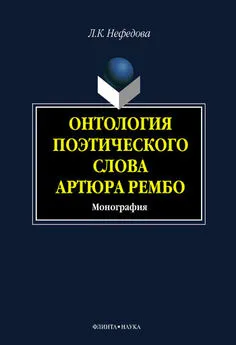Юрий Лотман - В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь
- Название:В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:1988
- Город:М.
- ISBN:5-09-000544-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Лотман - В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь краткое содержание
Книга, предназначенная учителю-словеснику, познакомит с методами анализа литературного текста и покажет образцы применения этих методов к изучению произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
Литературоведческий анализ дается на материале как включенных в школьную программу произведений, так и непрограммных.
Работа будет способствовать повышению филологической культуры читателей.
В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В кинематографе, как и в романе, носителями сюжетного развития становятся персонажи (включая в эту категорию образы людей, вещей, социокультурные символы и знаки и т. п.), обладающие способностью к активному поведению, совершению поступков. Поступок же определяется как действие, не (или не до конца) запрограммированное какой-либо внешней силой, а являющееся результатом внутреннего волевого импульса, с помощью которого персонаж совершает выбор действия. Персонаж как элемент сюжета всегда обладает внутренней свободой и, следовательно, моральной ответственностью. Таким образом, с одной стороны, совершается отбор людей, способных играть в романе роль сюжетных персонажей, а с другой — разнообразные силы отчужденного общества, символически воплощаясь в вещах и знаках (ср. образы шагреневой кожи у Бальзака или Носа у Гоголя), приобретают статус такого же рода.
Сказанное связано с тем, что элементы текста — наименования предметов, действий, имена персонажей и пр. — попадают в структуру данного сюжета, уже будучи отягчены предшествующей социально-культурной и литературной семиотикой. Они не нейтральны и несут память о тех текстах, в которых встречались в предшествующей традиции. Вещи — социокультурные знаки — выступают как механизмы кодирования, отсекающие одни сюжетные возможности и стимулирующие другие. Каждая «вещь» в тексте, каждое лицо и имя, т. е. все, что сопряжено в культурном сознании с определенным значением, таит в себе в свернутом виде спектр возможных сюжетных ходов. На пересечении этих потенциальных возможностей возникает исключительное богатство трансформаций и перекомбинирования сюжетных структур, определяемых традициями жанра в их взаимодействии с «сюжетами жизни». Создается исключительно емкая динамическая система, дающая писателю неизмеримо бо́льшие сюжетные возможности, чем сказочнику.
Если к этому добавить особенности романного слова, глубоко проанализированные M. M. Бахтиным и открывающие почти неограниченные возможности смыслового насыщения [375], то сделается понятным ощущение сюжетной безграничности, которое вызывает роман у читателя и исследователя, характерный для жанра «живой контакт с неготовой, становящейся современностью (незавершенным настоящим)» [376]
Структуру, которую можно себе представить как совокупность всех текстов данного жанра, всех черновых замыслов, реализованных и нереализованных, и, наконец, всех возможных в данном культурно-литературном континууме, но никому не пришедших в голову сюжетов, мы будем называть сюжетным пространством.
Резко возрастающее в XIX в. разнообразие сюжетов привело бы к полному разрушению повествовательной структуры, если бы не компенсировалось на другом полюсе организации текста тенденцией к превращению больших блоков повествования и целых сюжетов в клише. Пристальный анализ убеждает, что безграничность сюжетного разнообразия классического романа, по сути дела, имеет иллюзорный характер: сквозь него явственно просматриваются типологические модели, обладающие регулярной повторяемостью. Закон, нарушение которого делает невозможной передачу информации, подразумевающий, что рост разнообразия и вариативности элементов на одном полюсе обязательно должен компенсироваться прогрессирующей устойчивостью на другом, соблюдается и на уровне романного сюжетостроения. При этом непосредственный контакт с «неготовой, становящейся современностью» парадоксально сопровождается в романе регенерацией весьма архаических и отшлифованных многими веками культуры сюжетных стереотипов. Так рождается глубинное родство романа с архаическими формами фольклорно-мифологических сюжетов.
В силу уже отмеченной проницаемости сюжетного пространства романа для внеположенной ему культурной семиотики, разные типы культуры характеризуются различными сюжетными пространствами (что не отменяет возможности выделить при генетическом и типологическом подходе сюжетные инварианты). Поэтому можно говорить об историко-эпохальном или национальном типах сюжетного пространства. В данном случае нас будет интересовать русский роман XIX в.
Объект этот тем более интересен, что генетически сюжетика русского романа XIX в. восходит к европейской, и еще в XVIII столетии она строится практически по одним и тем же схемам. Национальное своеобразие остается в пределах бытовой окраски действия, но не проникает еще в самое структуру сюжета. Создание «русского сюжета» — дело Пушкина и Гоголя. Попробуем проследить трансформацию лишь некоторых сюжетных схем, не претендуя на исчерпывающее описание «сюжетного пространства».
Для русского романа XIX в. актуальными оказываются некоторые глубинные мифологические модели. Проследим, как складывается эта специфическая «мифология» сюжетов.
Мы уже отмечали, что особенностью сюжетообразующего персонажа являются его активность и относительная свобода по отношению к обстоятельствам [377].
Это привело к тому, что определенные черты сюжетообразующих персонажей были унаследованы от эпохи романтизма. В романтической поэтике активный герой, строитель сюжета, был героем зла. Именно он — демон, падший ангел — присваивал себе свободу нарушать установленные Богом законы. Активность мыслилась как активность злой воли. Аморальный в глазах толпы, герой, однако, был не аморален, а внеморален. Ценой безграничного одиночества он покупал величие и право быть выше нравственного суда других людей.
В русской литературе 1820-х гг. персонаж этот переживал существенные трансформации. С одной стороны, романтический герой сближался с центральным персонажем элегии. Ему придавались черты «преждевременной старости души» (Пушкин). Одновременно он терял волевые импульсы и переставал быть, в отличие от героев Байрона, персонажем активного действия. Следствием этого являлось резкое ослабление сюжетности русской романтической поэмы. Для Пушкина это было сознательным художественным решением, хотя он в наброске письма к Гнедичу с лукавым самоуничижением писал, что в «Кавказском пленнике» «простота плана близко подходит к бедности изобретения» (XIII, 371). Само это письмо, в котором поэт развертывает не использованные им сюжетные возможности, говорит о намеренной ориентации на бессюжетность. Причем Пушкин прямо мотивирует это характером своего героя, потерявшего чувствительность сердца (там же). Характерно, что 14-летний Лермонтов, не зная письма Пушкина, ввел в свою версию «Кавказского пленника» именно те сюжетные варианты, которые автор поэмы отверг. Лермонтов тяготел к сюжетным стереотипам байронической поэмы, Пушкин же исходил из того, что «характер главного героя <���…> приличен более роману нежели поэме» (там же).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: