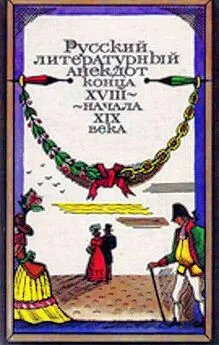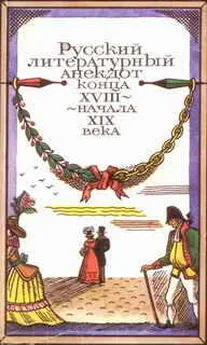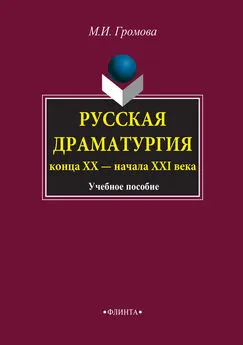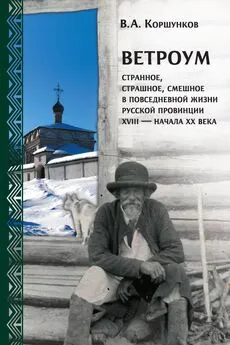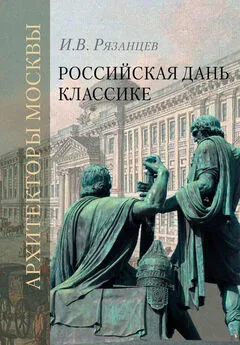Юрий Лотман - Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)
- Название:Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство — СПБ
- Год:1994
- Город:СПб.
- ISBN:5-210-01468-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Лотман - Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) краткое содержание
Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы. Фактическая новизна и широкий круг литературных ассоциаций, фундаментальность и живость изложения делают ее ценнейшим изданием, в котором любой читатель найдет интересное и полезное для себя.
Для учащихся книга станет необходимым дополнением к курсу русской истории и литературы.
Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для того чтобы представить себе облик той Анны Евдокимовны Лабзиной, глазами которой читателю предлагается глядеть на историю ее жизни, имеет смысл обратиться к мемуарам ее воспитанницы. Мемуары проникнуты восторженным отношением к Лабзиной, в них господствует не осуждение, а преклонение. И именно в них мы находим показания о суровости воспитательницы, которая требовала, чтобы провинившиеся племянницы целую ночь выстаивали на коленях у входа в ее комнату в ожидании прощения. Но и тут прощения не давалось, и они уходили в слезах, проникнутые сознанием своей греховности. «Три раза в год она меня целовала, — пишет мемуаристка, — а именно: после причащения моего Святых Тайн, в день Светлаго Воскресения и в день моих именин, а в прочее время подавала мне руку, после чего имела привычку отряхивать оную, как будто замаралась от губ моих» (с. XIX). Воспоминания Анны Лабзиной резко делятся на две части. Первая из них посвящена детству и годам, предшествующим раннему замужеству. Принятая мемуаристкой житийная схема с большим трудом накладывается на биографическую реальность. В результате образ матери у Лабзиной отчетливо двоится. С одной стороны, это трафаретный житийный стереотип: мать святой — благочестивая, достойная женщина, проводящая дни свои в благих мыслях и молитвах. Она покровительствует нищим, помогает узникам, которые с рыданием приемлют ее благодеяния. Тут невольно вспоминаются слова Пушкина из «Пиковой дамы» в описании похорон графини: «Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. „Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного“». Пушкинская цитата — не карикатура и не издевка. Это бытописательная картина, свидетельствующая о нормальных отношениях агиографии (житийности) и бытовой реальности. Недоразумение возникает лишь тогда, когда понимание языка утрачено и принадлежащий другой культуре читатель начинает воспринимать священный текст как бытовую реальность или превращать бытовую реальность в священный текст. Средневековая традиция не впадала здесь в противоречие, поскольку отчетливо разделяла: пастырь должен осуществлять священное поведение и реализовывать апостольские законы в своей каждодневной практике; простец живет в грехе и, не впадая в гордыню, должен смиренно подчиняться правилам этой жизни. Спасение его — в сознании своего греха и в покаянии. Своевольно приписывать себе святое поведение — грех гордости. Анна Евдокимовна Лабзина впадает именно в этот грех. Приписывая себе святость, она одновременно разрешает себе и суд над поведением своего мужа.
Однако в первой части ее воспоминаний стереотип «детства святой» не может заслонить интересных для историка культуры и психолога реалий. Так, например, она рассказывает о том, что в ее детское воспитание входил спорт, что ребенка приучали (совсем по рецептам Руссо) переносить физическую нагрузку, ограничиваться простой пищей, закалкой предупреждали болезни. Совсем особняком стоит следующий эпизод, рисующий мать мемуаристки как женщину почти патологической нервозности, подверженную таким эксцессам сентиментализма, которые никак не связать со стереотипами «святого» поведения.
Мемуаристка рассказывает, что после смерти отца мать ее более чем на год заперлась в темной комнате, отказалась видеться с детьми и вела со скончавшимся мужем беседы, полные страстного любовного чувства. Все попытки обратить ее к реальности встречали с ее стороны резко агрессивную реакцию, завершавшуюся вспышками истерики. Детей она возненавидела, сопротивляясь их праву на ее любовь. Только насильственное вторжение родственника заставило ее выйти из этого мистического пространства. Затем естественно последовал взрыв истерики и длительное церковное покаяние, которое возвратило ее в бытовую реальность.
Дальнейшая часть мемуаров строится по уже упомянутой схеме. Роль руководителей, направляющих мемуаристку на праведный путь, выполняют, сменяя друг друга, несколько персонажей. Но по мере того как они занимают это место, их речи и поступки становятся совершенно одинаковыми. Центральный из них — писатель М. Херасков. Литературная сторона деятельности Хераскова, его обширное наследие в стихах и прозе, его место в русской литературе и административные должности — а их было немало — все это остается абсолютно за пределами внимания мемуаристки. Она этого просто не замечает, как не замечала она научной деятельности своего мужа, как не замечала она, что жена Хераскова — известная писательница и что дом Хераскова был активно включен в политическую жизнь эпохи. Вообще, вряд ли будет большой ошибкой сказать, что для историка мемуары Лабзиной одинаково интересны тем, что она замечает и описывает, и тем, чего она не видит и не описывает. Для историка культуры такие пропуски и вызывавшая их «слепота» — факты не менее красноречивые, чем иные подробные описания. Женщину-ребенка (ибо к Хераскову Лабзина попала, когда ей едва исполнилось пятнадцать лет) Херасков превратил в материал психологического эксперимента в духе XVIII века. Вольтер в своей повести «Простодушный» предложил всей Европе опыт столкновения «естественного человека» и «противоестественного» общества. Идея «естественного человека», освобожденного от предрассудков и следующего только голосу Природы, сделалась подлинным увлечением XVIII века. От екатерининского вельможного педагога Бецкого до многочисленных утопистов разной степени мятежности, от утопий Руссо до гомункулуса [417] С гомункулусом связана утопическая идея масонов по созданию искусственного человека, «не грешного в Адаме», то есть зачатого в колбе.
масонов и Фауста — вся интеллектуальная Европа бредила идеей совершенного человека. Педагогический эксперимент и общественная утопия органически переплетались друг с другом. У всех этих сюжетов была одна общая черта: подопытное дитя изолировалось от жизни и подвергалось особому, «естественному» воспитанию. Именно такой эксперимент проделал Херасков с юной Лабзиной. Прежде всего — изоляция. И даже если сделать поправку на то, что мемуаристка явно стилизует картину и увеличивает степень педагогической последовательности ее реального воспитания в доме Хераскова, картина получается достаточно красноречивой. Круг ее знакомств, чтения и разговоров строго контролируется. Согласно педагогике Руссо, воспитатели озабочены не увеличением знаний воспитанницы, а как можно более долгим сохранением ее «естественного» незнания. Таков рассказанный Лабзиной эпизод о случайном присутствии ее при литературном разговоре о романах. Херасков был сам автором многочисленных романов, и, конечно, в его доме обсуждались не «опасные» для дам французские романы вроде «Ловеласа»; обсуждался какой-либо, по выражению Пушкина, «нравоучительный и чинный» роман. И тем не менее воспитанницу оберегали от этих опасных разговоров.
Интервал:
Закладка: