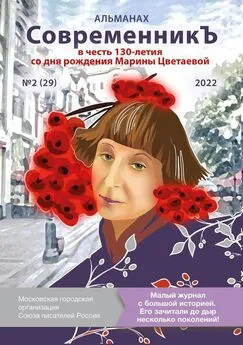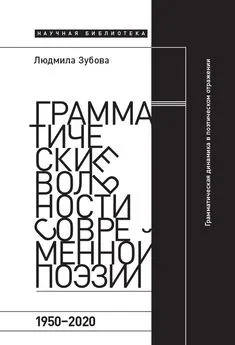Людмила Зубова - Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект
- Название:Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ленинградского университета
- Год:1989
- Город:Ленинград
- ISBN:5-288-00299-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Зубова - Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект краткое содержание
В монографии разносторонне и обстоятельно исследуется язык поэзии М. Цветаевой, рассказывается об этимологических поисках М. Цветаевой, о многозначности и емкости ее слова, о цветовой символике. Автор доказывает, что поэтический язык — воплощение потенций национального языка. В монографии органически сочетаются поэтика и лингвистика. Убедительно раскрывается связь между языком поэта и его идеями.
Для филологов — лингвистов и литературоведов, а также для всех любителей поэзии.
Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Взаимоотражение звуковых и семантических характеристик, принадлежащих двум словам, можно видеть в акцентологических квазиомонимах:
Восхищенной и восхищённой,
Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной (С., 140)|0;
Пройдем, пока спит, В чертог его (строек Царь!) — прочно стоитИ нашего стоит.Внимания… (И., 482).
Анаграммами могут объединяться и словосочетания, члены которых как бы обмениваются слогами, в результате чего получается фонетически замкнутая конструкция с взаимным зеркальным отражением элементов, указывающим на взаимосвязь обозначаемых понятий:
Лютая юдоль,
Дольняя любовь (И., 193).
В следующих примерах можно наблюдать объединение слогов или звуков, взятых из двух слов, в третьем, общем для них члене паронимического ряда:
Короткая спевка
На лестнице плёнкой:
Низов голосовка.
Не спевка, а сплёвка:
(…) Торопкая склёвка(С., 399).
В этом потоке превращений одного слова в другое — начало третьего слова сплёвка представляет собой сумму начал первого и второго, и значение этого окказионализма с математической точностью соответствует сумме значений первых двух слов (а + b = с).
Не менее очевидна связь между тремя словами, заключающими в себе сходные фонетические комплексы, когда на первом месте стоит слово объединяющее, в дальнейшем расчленяемое на составляющие (а = b + с):
Федра Сводня!О — сво— бо — дите ме ня! (С., 450),
Я и жизнь маню,я и смерть манюВ легкий дар моему ог ню(С., 118);
Переносица. В две дуги Брови ровные. Под губой Воля каменная — дугой.
Дуновением губ: — Реки! Речи не было. Был руки Знак (С, 431).
В таких случаях помимо фонетической гармонии в поэтическом тексте обнаруживается и гармония смысловая в результате окказиональной производности объединяющего слова от объединяемых.
Объединение звуковых комплексов, не совпадающих с морфемами, можно сравнить с объединением в слове вычлененных морфем — типичным проявлением этимологической регенерации: Победоносец, || Победы не вынесший (С, 170).
Сравнение показывает, что такие звуковые комплексы по своему свойству потенциальной выделимости и повторяемости, которое, как и в случае с квазиприставками ( пуговице — Пугач — пусто ), может реализоваться только в поэтическом контексте, уподобляются морфемам (вероятнее всего, корням сложных слов). В этом плане следует признать весьма перспективным поиск паронимических квазикорней и построение паронимических парадигм в поэтических идиостилях и в поэзии вообще (см.: Григорьев 1979, 283–300).
Заключая эту главу, можно сказать, что явления, связанные с различными видами семантизации формальных элементов языка — корневым повтором, этимологической регенерацией, поэтической этимологией и паронимической аттракцией, — отражают одно из важнейших свойств языка поэзии — реализацию словообразовательных возможностей языковой системы — и наглядно показывают динамический характер языковых элементов на фонетическом, морфологическом и семантическом уровнях. Динамика языковых элементов нашла такое активное отражение в поэзии Цветаевой не случайно: одним из важнейших свойств лирического субъекта ее произведений является динамичность, изменчивость (Фарыно 1981, 33). Изменчивость как одна из важнейших категорий поэтики М. Цветаевой и как отражение языкового развития тесно связана со способностью языковой единицы совмещать в себе различные значения и развивать каждое из значений в разных направлениях. Эта проблема рассматривается во II главе.
ГЛАВА II. Синкретизм в поэзии М. Цветаевой
1. ПОНЯТИЕ СИНКРЕТИЗМА
Синкретическое (комплексное, нерасчлененное) представление различных семантических и грамматических признаков в одном слове — древнейший способ познания и отражения мира в языке, способ, восходящий к эпохе мифологического мышления, когда в сознании говорящего означаемое еще не отделялось от означающего, признак — от его носителя, действие — от субъекта этого действия (Фрейденберг 1936, 18, 21). На следующих этапах развития мышления и языка происходило осознание, вычленение из синкреты, иерархическое упорядочение отдельных семантических и грамматических признаков, выстраивающихся в градуальные оппозиции. Затем обособление этих признаков приводило к перестройке градуальных оппозиций в бинарные, преобладающие в современных развитых языках, в том числе и в современном русском (Колесов 1984, 18–19).
Наследием синкретизма в языке можно считать прежде всего комплексное представление набора сем в слове (компонентов значения, семантических дифференциальных признаков), а также полисемию слов и морфем, метафору и метонимию, трансформацию частей речи — субстантивацию, адвербиализацию и т. п., словосложение, междусловное наложение, контаминацию, эллипсис и другие подобные проявления компрессии в языке и речи. На новом этапе развития языка многие из таких фактов объясняются преимущественно тенденцией к экономии речевых средств и поэтому могут рассматриваться как явления «вторичного» синкретизма. Однако следует иметь в виду, что система языка легко принимает, а норма узаконивает эти факты именно потому, что синкретизм органически свойствен языковой системе. В последнее время высказываются мнения о том, что «явление семантического синкретизма (…) должно изучаться не как нечто раз и навсегда преодоленное языком и предполагаемое по большей части для праязыковых эпох, да и то на уровне гипотезы, а как характерная особенность словаря» (Трубачев 1976, 168). Необходимо уточнить, что явление синкретизма свойственно не только словарю (и шире — языку), но и речи, что отражено в исследованиях по полисемии (Панькин 1975; Литвин 1984). Все это свидетельствует о синкретизме как существенном реальном и потенциальном свойстве множества языковых единиц — свойстве, реализуемом в речи. Явление это можно рассматривать на всех языковых уровнях, на которых существуют значимые, а следовательно, и потенциально многозначные, единицы.
Вопрос о смысловом содержании и различении таких понятий, как «полисемия», «многоплановость художественного слова», «диффузность значения» и «синкретизм» в современном языкознании еще не разработан. Можно предложить рассматривать в качестве основного признака синкретизма именно нерасчлененность значения слова или формы, реализацию разных смыслов слова и формы в едином речевом акте: синкретизм предполагает конъюнкцию значений, а полисемия их дизъюнкцию. (Ср. примеры из произведений М. Цветаевой: а) художественное использование полисемии —
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


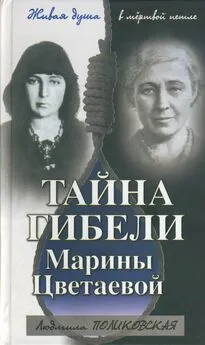

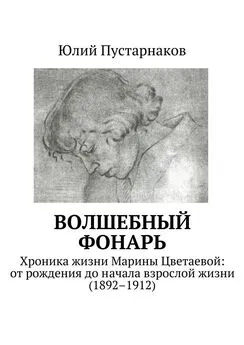
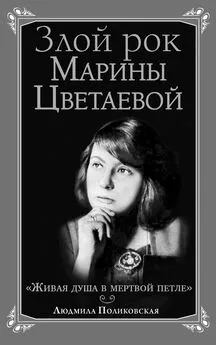
![Людмила Зубова - Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020 [калибрятина]](/books/1147949/lyudmila-zubova-grammaticheskie-volnosti-sovremennoj-poezii-1950-2020-kalibryatina.webp)