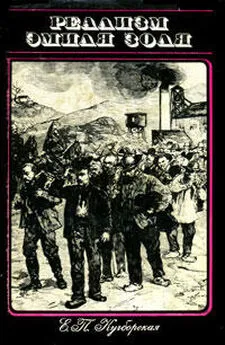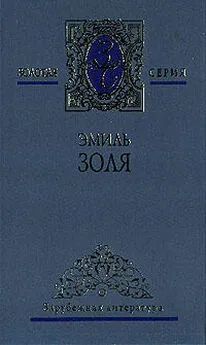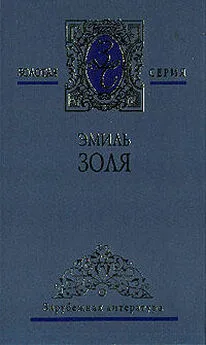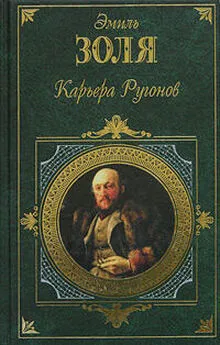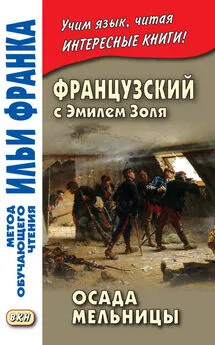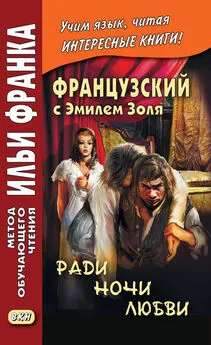Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
- Название:Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский университет
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции краткое содержание
Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместе с композиционным и пространственным решениями ритм, свет и цвет в этом эпизоде стали действенным средством выражения содержания и подчинились идейно-сюжетному замыслу.
О Гуже сказано: «Вокруг него стояло сияние, он казался прекрасным и могучим, как божество» («…il faisait de la clarte autour de lui, il devenait beau, tout-puissant, comme un bon Dieu»). Это сравнение не звучит как чрезмерное уже потому, что сцены в кузнице сохраняют как бы отголосок состояния, которое Гегель находил в искусстве героического периода, создавшем гомеровских героев. Там «средства удовлетворения потребностей еще не падают на уровень чисто внешней вещи», и можно видеть «процесс живого возникновения этих средств и живое сознание ценности, которую человек им придает, так как он в их лице обладает не мертвыми или омертвелыми в силу привычки вещами, а своими собственными, тесно связанными с ним созданиями». В этом мире всюду проглядывает «свежесть владения… во всем человек имеет перед собой силу своих мышц, умелую сноровку своих рук, изощренность своего собственного ума…» [164] Гегель. Лекции по эстетике. Соч., т. XII. М., Соцэкгиз, 1938, стр. 267–268.
. На страницах романа Золя живет удивление перед творческой красотой труда — состояние, которое со времен далекого детства человечества в искусстве было основательно забыто, а в жизни, может быть, никогда не умирало.
Это восприятие труда, близкое передовому искусству нового времени, можно было впервые увидеть у Золя в раннем его рассказе «Кузнец» (1868 г.). Возможности малой формы позволили писателю очень личной интонацией ярко подчеркнуть обобщенный смысл образа человека, «взращенного трудом», «создающего в огне и грохоте железа общество завтрашнего дня». Постоянная борьба человека с неподатливым металлом «увлекала меня, как волнующая драма», признавался Золя. Захваченный своеобразной красотой, и силой этой картины, он неотрывно следил за всеми превращениями бесформенного куска железа, смотрел, как «человеческие руки сплющивают и гнут раскаленные докрасна железные брусья».
Он испытывал восторг при виде «побежденного и еще дымящегося металла», его радовало «зрелище победоносного труда», заставлявшего железо гнуться, вытягиваться, свертываться, «точно мягкий воск».
Взглянув на трудовую деятельность, как на предмет высокого искусства, открыв в ней источник красоты, Эмиль Золя закономерно подошел в этом рассказе к важному решению. В труде он увидел возможность обогащения, обновления эстетического идеала, приближения его к художественным запросам нового времени. Кузнец за работой, обнаженный до пояса, с громадами окаменевших мускулов «был похож на одно из тех великих творений Микеланджело, которые так прекрасны в своем могучем порыве. Глядя на него, я видел ту новую скульптурную линию, которую наши ваятели мучительно ищут в мертвом мраморе Древней Греции». Эта «новая скульптурная линия», когда напряжение фигуры, взятой в момент тяжелого труда, не скрывает красоты, но, напротив, выявляет ее, придала великолепную монументальную выразительность и облику кузнеца Гуже. Разрабатывая с волнением и блеском, интересом и любовью мотивы трудовой деятельности, Золя подходил к наиболее значительной теме современности.
В «Наброске» к роману «Западня» есть такая запись: «Нужно, чтобы книга была проста, рассказ совершенно обнаженный, отличающийся повседневной реальностью, прямолинейностью, без осложнений, с небольшим количеством сцен, самых обыденных…» Размышляя над формой, стилем будущего романа, Золя представлял себе ясно эстетические трудности, возникающие перед художником, обратившимся к жизни социальных низов.
«Сюжет беден, поэтому надо постараться сделать его настолько правдивым, чтобы он явил чудеса точности», преодолеть эстетическую невыразительность сюжета «рельефностью рисунка».
Для Золя представляло величайший интерес все, что связано с бытовой «скорлупой» его персонажей: их жилище, манера есть, пить, одеваться, вся совокупность данных, относящихся к избранному сюжету. Но в картинах быта, заполняющих роман, довольно редко наблюдается прямолинейная фиксация, создающая иллюзию повторенной натуры. Отбор фактов естественно дополняется приемом сознательного заострения (иногда доходящего до нарушения чувства реалистической меры и такта). Автор, оставаясь точным в главном, свободно расставляет акценты, допускает некоторый момент стилизации, вносит юмор…
Великолепной материальной полноты, зрительной убедительности картины Золя достиг в сцене свадьбы Жервезы. А день рождения Жервезы следует с полным основанием рассматривать как интереснейший образец бытописи, где автор, сочетая традиционные приемы с гротеском, вдохнул жизнь, движение и разнообразие в небогатую внешне картину бытия социальных низов.
Сцена пира в прачечной но поводу дня рождения Жервезы, к которому готовились долго и ожидали его с нетерпением, имеет своего рода композиционный центр. Вокруг него не смолкают разговоры, не затихают эмоции. Это гусь. Знаменитый жареный гусь из «Западни». Нечто огромное. Золотистое. Вызвавшее взрыв восторга и почтительного изумления. Появление его обставлено внушительно: восклицания, шум, топот, радостный детский визг. «Показалось торжественное шествие. Жервеза несла гуся, держа блюдо в вытянутых руках, ее потное лицо расплылось в безмолвной сияющей улыбке; за ней с такими же сияющими улыбками шествовали остальные женщины…» Гусь был подан гостям с множеством подробностей касательно его покупки и приготовления. И съеден под хор похвал.
Справедливости ради следует заметить, что гусь поглотил не все внимание присутствующих. Пиршество украшено было и пением гостей и хозяев. И несколько полнее проступили в героях второго плана черты, сглаженные в будни, расширились их индивидуальные характеристики.
Гладильщица г-жа Пютуа — строгая особа с гордым и решительным видом спела басом, неожиданным при ее тщедушной внешности, морскую песнь «На абордаж». «Пиратов петли ждут, от казни не уйдут», — утверждала г-жа Пютуа, пронзая воздух сухоньким кулачком. Неприкаянная шалая Клеманс дрожащим голосом проворковала «Свейте гнездышко». Матушка Купо со времен своей далекой молодости, оказывается, хорошо сохранила в памяти куплеты про мышку. Лорийе, высохший над чужим золотом, грезил об «аравийских ароматах» и об уличной плясунье Фатьме. Жервеза тихо пропела: «Ах, дайте мне уснуть!». Сентиментальный Гуже, затянув громовым голосом «Прощание Абд-эль-Кадера», с таким чувством завопил: «О, благородная подруга» (слова относились к вороной кобыле воина), что публика в восторге разразилась аплодисментами, не дожидаясь конца песни. Пел и полицейский Пуассон. Пел он плохо, «хрипел, как испорченный насос», но при словах «трехцветное знамя» так умело опрокинул в глотку стакан, что тоже заслужил аплодисменты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: