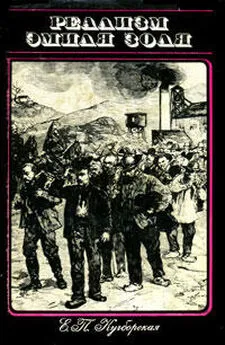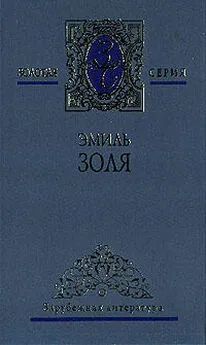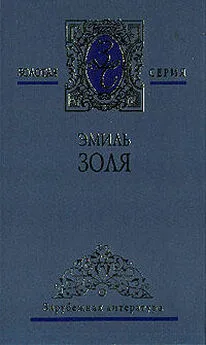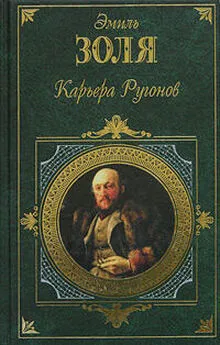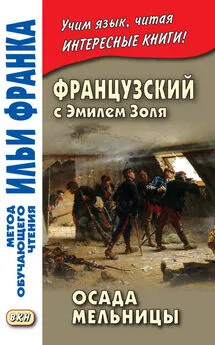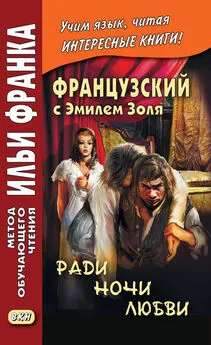Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
- Название:Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский университет
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции краткое содержание
Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако рисунок в пейзаже Золя сдерживал это неистовство красок. Павильон Флоры, синеющий среди розовых столбов дыма, легкий и зыбкий, как воздушный замок, в последних лучах солнца «терял сказочность, материализовался». Черная линия левого берега и озаренная косыми лучами правая набережная замыкали пространство, где «осыпанная золотыми блестками Сена катила свои сверкающие воды», перерезанные узкими поперечинами мостов, «которые в перспективе становились все тоньше». «Как углем» были нарисованы на небосводе силуэты остроконечных башен Дворца Правосудия.
Творческий интерес Эмиля Золя к живописи импрессионистов обогатил его художническую палитру. Пейзаж в романах Золя, написанный с применением импрессионистических приемов, нашел место в системе реалистического изображения, внес в него свежесть, экспрессию, интенсивность чувствования.
После неудачи в Салоне, бежав из Парижа, Клод в деревушке Беннекур через год стал «понемногу возвращаться» к живописи. Он писал сейчас, стоя по пояс в траве, на полном свету, в веселой гамме «поющих тонов»; еще никогда он не постигал таким образом рефлексов, не владел столь правильным ощущением предметов, освещенных рассеянным светом. Вторая его зима в Беннекуре была посвящена поискам «интересных эффектов в изображении снега».
После возвращения в Париж, когда город вновь овладел им, «проник в него до мозга костей», Клод, «увлеченный всем», стремившийся «все видеть, всего добиться», никак не мог прийти к решению, «с чего начать серию огромных полотен, которые он задумал». Но были ли они задуманы?
Клоду казалось, что среди того развала, в который пришла старая школа, когда пошатнулись все найденные формальные завоевания, именно ему дано внедрить «новую форму», несущую в живопись солнечный свет, «как ясную зарю», встающую в новых картинах, написанных под влиянием восходящей школы пленэра. Ибо эволюция в живописи уже наметилась, заявляла о себе с каждой новой выставкой, и Клод предвкушал среди робких, несовершенных попыток эффект появления мастера, который воплотит «свой замысел с дерзновением силы в новую форму, без оговорок, без уступок, цельно и убедительно, как истинный выразитель конца века». Но для каких замыслов отыскивал он новую форму?
Всю первую зиму в Париже, работая только на натуре и сталкиваясь с почти непреодолимыми трудностями, Клод писал угол пустыря на Монмартре: на фоне нищеты, жалких лачуг и возвышающихся над ними фабричных труб, «в снегу маленькая девочка и уличный мальчишка уписывали украденные ими яблоки». Но преимущественно аналитическое художническое мышление Клода, по-видимому, привлекало его внимание только к приемам в изображении снега, найденным еще в Беннекуре, к мелким частностям, и не могло организовать его зрительные впечатления. Увиденная в искусственном свете мастерской картина привела Клода в отчаяние: «Это была как бы открытая на улицу дверь; снег ослеплял; две фигурки жалобно выделялись на нем грязно-серыми тонами».
И следующая картина — уголок Батиньольского сквера в мае — не принесла ему творческой радости. Сейчас он «ударился в противоположную крайность» — дописывал картину в помещении. Но «разве можно было писать солнечный день в подвальном освещении его мастерской?». Для третьего, «бунтарского», произведения художнику потребовалось «все солнце Парижа». В раскаленном полуденном воздухе виден пар от взмыленной извозчичьей лошади; истомленные прохожие «опьянели от зноя»; только молодая женщина спокойно идет под зонтиком через площадь Карусели «розовая и свежая», словно для нее эта жара — родная стихия. Картина была необычайно трудна для Клода. Трудность заключалась в передаче «совершенно нового воплощения света», его точно прослеженного художником «последовательного разложения», нарушавшего «все обычные представления человеческого глаза». Клод акцентировал голубые, желтые, красные тона: мостовая казалась окровавленной, а фигуры прохожих, намеченные лишь силуэтами, растворялись в ослепительном свете.
По-прежнему в картине были «великолепные куски», которые поражали интенсивным цветом, оригинальной нюансировкой, передачей вибрирующего, текучего света. «Но откуда же брались его внезапные промахи? Где причина постоянной недоработанности, которая никогда не бросалась ему в глаза в пылу творчества, а потом убивала его картину неизгладимыми изъянами?» Живая натура была для Клода важнейшим источником. Он принимал ее восторженно и открыто и полагал, что видит ее непосредственно и непредвзято. Но трудно заметить у него стремление вооружить глаз и кисть мыслью, оплодотворить видение силой творческого разума. Или разум его призван был лишь к тому, чтобы изобретать ракурсы, повороты, приемы?..
Клод чувствовал, что «бессилен что-либо изменить»; в какой-то момент перед ним как бы вырастала стена, громоздились неодолимые препятствия, наступал тот предел, за которым «все спутывалось», предел, за который ему «не дано было перейти»…
«Нищета добивала» Клода. Как, впрочем, и Магудо, и Шэна… Бедствия художников, не встретивших признания, не «вошедших в моду», показаны в характерных, выразительных эпизодах. Но самые детальные описания обстановки и всего неустроенного быта непризнанных артистов не могут по глубине драматизма соперничать с красноречивой, несущей в себе обобщающий смысл, сценой посещения Клодом Лантье скульптора Магудо.
В маленькой мастерской на улице Тийель Магудо очутился в результате тягостных обстоятельств, «перевернувших его жизнь»: за неплатеж он был выселен из жилища — бывшей зеленной лавки. К этому присоединилась утрата близких людей: его товарищ Шэн, «отчаявшись когда-либо заработать себе на жизнь живописью», подался в ярмарочную торговлю; исчезла и возлюбленная Магудо — Матильда. Сам он «окончательно впал в нищету». Статуи, созданные некогда «со страстью и вдохновением», были возвращены скульптору после выставки в Салоне, так как не нашли покупателя.
В ледяной мастерской, на постаменте из упаковочного ящика возвышалась последняя работа Магудо, «воплощение давнишней мечты» — «Купальщица», завернутая в старые тряпки, застывшие так, что ломались на складках. «Ей совершенно необходимо тепло», — сокрушался Магудо, растапливая печку и «изо всех сил» экономя уголь. «Как тут работать, если не можешь купить даже двух металлических прутьев?» — художник, надеясь, что дерево выдержит, сам смастерил для «Купальщицы» каркас из палок, на которые насаживают метлы.
После гигантской «Сборщицы винограда» Магудо «перешел к гармонии», все уменьшая, смягчая пропорции своих творений. Исполинские формы приобретали изящество, «истинная природа пробивалась сквозь преувеличения художника». Созревшая в воображении мастера «среди отчаянной нищеты», его «Купальщица», все еще несколько громоздкая, была полна очарования. «…Я хоть дьяволу готов продаться, чтобы оплатить формовку», — сказал Магудо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: