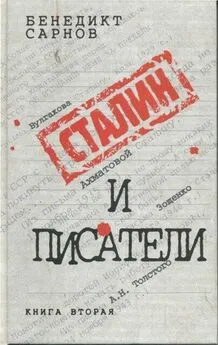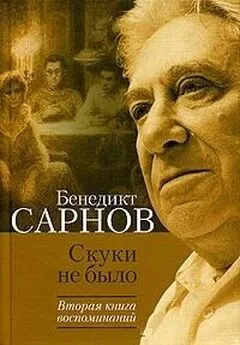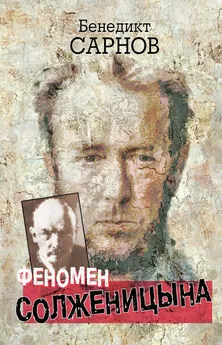Бенедикт Сарнов - Маяковский. Самоубийство
- Название:Маяковский. Самоубийство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-699-18644-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бенедикт Сарнов - Маяковский. Самоубийство краткое содержание
Смерть и бессмертие… В приложении к Маяковскому оба эти слова таят в себе множество вопросов. О причинах трагической гибели поэта спорят поныне, и споры эти сегодня так же горячи, как в тот роковой день 14 апреля 1930 года. И с бессмертием Маяковского дело обстоит тоже непросто. На какое бессмертие может рассчитывать поэт, сказавший: «Умри, мой стих…», «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»?
Маяковский. Самоубийство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
► Он запер дверь и положил ключ в карман. Он был так взволнован, что не заметил, что не снял пальто и шляпу.
Я сидела на диване. Он сел около меня на пол и плакал. Я сняла с него пальто и шляпу, гладила его по голове…
(Вероника Полонская. «Я любила Маяковского, и он любил меня»)► Лилек!
Я вижу ты решила твердо. Я знаю что мое приставание к тебе для тебя боль. Но Лилик слишком страшно то что случилось сегодня со мной что б я не ухватился за последнюю соломинку за письмо.
Так тяжело мне не было никогда — я должно быть действительно чересчур вырос. Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил всегда знал теперь я это чувствую всем своим существом, все о чем я думал с удовольствием сейчас не имеет никакой цены — отвратительно.
Я не грожу я не вымогаю прощения… И все-таки я не в состоянии не писать не просить тебя простить меня…
Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою…
(Из письма Аиле Юрьевне Брик, 28 декабря 1922).Уроки Жюльена Сореля или Онегина («Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей») — были не для него. При его душевной распахнутости такой образ поведения был бы ему просто не под силу.
И таким же открытым, распахнутым, бесконечно уязвимым, отрешившимся от последних остатков мужского самолюбия, не боящимся быть даже униженным, предстает он перед нами и в своих любовных стихах:
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Для тех, кто глух к его стихам (как, впрочем, и к другим тоже), они — нарочиты, искусственны, даже фальшивы:
► Часто говорят о чрезмерной энергии, темпераменте Маяковского-лирика, но ведь и темперамент этот чрезвычайно фальшив, неискренен, наигран. Обусловленная гигантоманией (или манией величия) автора лексика («звоночище», «мячище», «ручьища» и т. п.) не эффективна, как и обилие восклицательных знаков почти в каждой строфе… «Ткнулся губой в телефонное пекло», «смертельной любви поединок», «мне лапы дырявит голоса нож», «сигналю ракетой слов», «прикрывши окна ладонью угла», «я бегал от зова разинутых окон», «дверье крыло раз по сто по бокам коридора исхлопано», «Ужас дошел, натягивая нервов строй» и т. п. Напыщенность и однообразие глушат подлинный голос чувства…
В отличие от Блока, настаивавшего, что поэт — «сын гармонии», Маяковский изначально ощущал себя детищем вопиющей дисгармонии, хаоса, анархии, разрушения эстетики. Его союз с О. Бриком, Б. Арватовым, Н. Чужаком и другими лефовскими шарлатанами-теоретиками «производственного искусства», перехода «из эстетики в производственничество» был совершенно закономерен.
«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Еще со времен «Облака в штанах» всем, в том числе и ему самому, было понятно: Любовь-Мария к такому не придет.
Это не из «рапповских» или «напостовских» статей начала 30-х и даже не из кампании по «борьбе с формализмом», развернувшейся после печально знаменитой разгромной статьи «Правды» об опере Шостаковича.
Приведенная цитата — все из той же статьи Дмитрия Нечаенко, написанной и опубликованной в 1995-м.
После всего уже сказанного вряд ли стоит оспаривать адресованные лирическим стихам Маяковского обвинения в их фальши и неискренности. И уж совсем не стоит опровергать замечательное утверждение автора статьи насчет того, что «Любовь-Мария к такому не придет». Но на одном словечке из этого потока уничтожающих, растаптывающих поэта определений есть смысл задержаться.
Слово это — гигантомания.
Оно в этом потоке — единственное, которое вроде бы не бьет мимо цели:
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.
Строчками, подобными этим, при желании можно было бы заполнить не одну страницу.
Да, склонность к тому, что Дмитрий Нечаенко называет гигантоманией,Маяковскому действительно была присуща.
Но только ли ему одному?
Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
На цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!..
Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?
Любимая, — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется Бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.
Он видит, как свадьбы справляют вокруг.
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, — паюсной.
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.
И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.
И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнет по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.
Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпям —
Страсти! Где насморком
Назван плач!..
Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?
Интервал:
Закладка: