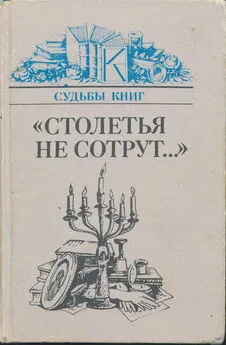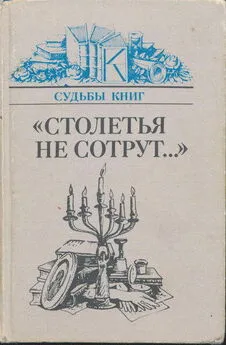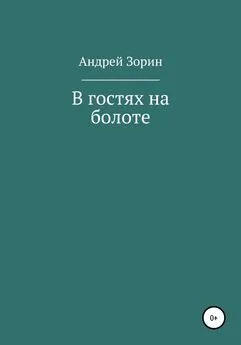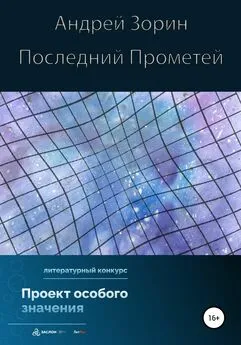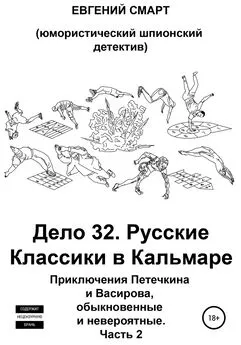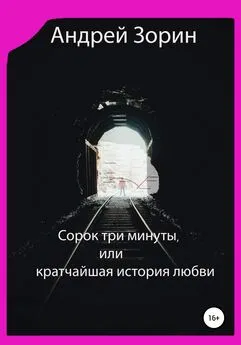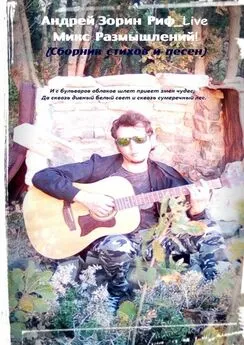Андрей Зорин - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
- Название:«Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-212-00025-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Зорин - «Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели краткое содержание
«Диалог с Чацким» — так назван один из очерков в сборнике. Здесь точно найден лейтмотив всей книги. Грани темы разнообразны. Иногда интереснее самый ранний этап — в многолетнем и непростом диалоге с читающей Россией создавались и «Мертвые души», и «Былое и думы». А отголоски образа «Бедной Лизы» прослежены почти через два века, во всех Лизаветах русской, а отчасти и советской литературы. Звучит многоголосый хор откликов на «Кому на Руси жить хорошо». Неисчислимы и противоречивы отражения «Пиковой дамы» в русской культуре. Отмечены вехи более чем столетней истории «Войны и мира». А порой наиболее интересен диалог сегодняшний— новая, неожиданная трактовка «Героя нашего времени», современное прочтение «Братьев Карамазовых» показывают всю неисчерпаемость великих шедевров русской литературы.
«Столетья на сотрут...»: Русские классики и их читатели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обдумывание последнего романа в деталях, в его конкретном сюжетном исполнении началось в 1874 году. Началось с мысленного возвращения к описанной в "Записках из Мертвого дома" истории Ильинского. Там еще только два брата, еще только история ревнивого соперничества братьев — но уже в центре возвращение с каторги через 12 лет (потом автор решил разделить первый и второй романы промежутком в 13 лет), , "сцена, где безмолвно понимают друг друга", столь излюбленное Достоевским публичное признание-покаяние, финальный аккорд: "На правый путь вступил!" Общий контур фабулы уже есть, но замысел зрел еще три года, прежде чем началась вплотную работа как таковая.
В декабре 1877 года Достоевский распрощался с читателями "Дневника писателя", объявив, что в следующем году "Дневник" выходить не будет. "В этот год отдыха от срочного издания, — объяснял он подписчикам, — я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания "Дневника" неприметно и невольно". "Дневник" он сам понимал как подготовку к своему роману. "Готовясь написать один очень большой роман, я… задумал погрузиться специально в изучение не действительности собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем для меня… молодое поколение и вместе с тем современная русская семья…" Давно уже занимала его мысль, он даже "поставил себе идеалом — написать роман о русских теперешних детях", мысль, чьей "первой пробой" был "Подросток". Этот роман чаялся Достоевскому как новые "Отцы и дети" в их современном соотношении, и роман об отце и детях Карамазовых тоже изначально виделся ему как роман о детях. "Я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети, и именно малолетние, с семи до пятнадцати лет примерно. Детей будет выведено много. Я их изучаю, и всю жизнь изучал, и очень люблю, и сам их имею".
Первые дошедшие до нас заметки к роману свидетельствуют, что создание его в голове автора зашло уже очень далеко, прежде чем что‑либо стало заноситься на бумагу. К 1878 году план романа был на удивление развитым. Например, в письме к педагогу В. В. Михайлову, процитированном выше, Достоевский просил сообщить ему все возможные наблюдения о детях, хотя это не могло понадобиться ему вплоть до второй половины книги. В апреле 1878 года он записал себе для памяти: "Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер?" Эта первая известная нам запись относится, разумеется, к эпизоду с Колей Красоткиным, хотя эпизод этот был написан только через 2 года и появился в последней части романа! Впрочем, для Достоевского всегда работа начиналась с тщательнейшего обдумывания фабулы. Он так писал летом того же года С. А. Юрьеву, желавшему напечатать будущий роман в предполагавшемся новом журнале: "Роман я начал и пишу, но он далеко не докончен, он только что начат. И всегда у меня так было: я начинаю длинный роман… с середины лета и довожу его почти до половины к Новому году, когда обыкновенно является в том или другом журнале, с января, первая часть. Затем печатаю роман с некоторыми перерывами в том же журнале весь год до декабря включительно и всегда кончаю в том году, в котором началось печатание. До сих еще не было примера перенесения романа в другой год издания".
Итак, прямое планирование романа относится к 1877 году, хотя стадия предварительной подготовки заняла многие годы. Сюжет и конструкция книги, все детали продуманы скрупулезно, неторопливо. Далеко не сразу читателям и критикам стало ясно, что "Карамазовы", со всеми их отступлениями и усложненностью сюжетных и идейных линий, составляют уравновешенное и гармоничное целое. Зато когда увидели — "видимая бесформенность оказалась завершенностью громадного готического собора", как отозвался английский журнал "Спектейтор" в 1912 году на перевод К. Гарнетт.
Э. Симмонс в 1940 году во введении к "Братьям Карамазовым" сдержанно отметил, что сюжет этого романа лучше сконструирован, чем большинство сюжетов Достоевского. Прошло несколько десятилетий — и критики повсеместно согласились, что "Братья Карамазовы" — архитектурный шедевр Достоевского.
Смерть сына Алеши 16 мая 1878 года надолго прервала работу. "Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, — вспоминает А. Г. Достоевская, — я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь… Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича…"
На четыре дня заехав в Москву, Достоевский легко убедил Каткова дать ему аванс на предстоящий роман. Поездка имела большие последствия для "Карамазовых": она дала огромный материал для первых частей. Критики считают, что на образ Зосимы наложило сильный отпечаток знакомство с отцом Амвросием, утешавшим писателя в потере сына. Впрочем, К. Леонтьев, изнутри знавший дух Оптиной пустыни, не признал верности изображения и говорил, что "старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож".
Вернувшись из Оптиной, Достоевский сел за писание романа. Первый кусок действительно появился в "Русском вестнике" в январе 1879 года. Дальнейшее, однако, продвигалось не так, как обычно. Немедленный отклик публики поддержал его собственное убеждение в значении работы, но и призывал к величайшей тщательности. Печатание "Братьев Карамазовых" пришлось перенести и на следующий год, и заняло оно не год, а два года. Достоевский писал дни и ночи, писал чрезвычайно ответственно, по пяти раз, как сам говорил, переделывая и переправляя написанное, пытаясь предугадать реакцию, снова и снова взвешивая, уясняя, растолковывая, местами чересчур растолковывая (сцена с чертом, например, потеряла в сравнении с черновыми ее набросками именно вследствие излишнего многословия беса, стремления автора предельно разъяснить мысль, все сделать понятным). Когда он отослал в журнал Эпилог в ноябре 1880 года, он был крайне измучен. "…Если есть человек в каторжной работе, то это я, — писал он одной из своих корреспонденток. — Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней". Здоровье его было окончательно подорвано, и смерть последовала через три месяца после завершения книги.
Ее отдельное издание в двух томах вышло в свет, однако, еще при жизни автора, и он убедился в ее успехе. "Издание это имело сразу громадный успех, — вспоминала А. Г. Достоевская, — и в несколько дней публика раскупила половину экземпляров".
Не закончилось еще печатание "Братьев Карамазовых", как началось бурное повсеместное обсуждение книги и споры о ней, длящиеся и поныне. И сразу же судьбы Карамазовых заинтересовали не только Россию. "В Петербурге начал печататься очень интересный роман Федора Достоевского", — откликнулось британское "Современное обозрение" ("Контемпорэри ревью") уже в 1880 году. Но для России эти судьбы имели совсем особенное значение. Впечатления многих подытожил в 1885 году И. Н. Крамской: "Когда я читал Карамазовых, то были моменты, когда казалось: Ну если и после этого мир не перевернется на оси туда, куда желает художник, то умирай человеческое сердце!"
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: