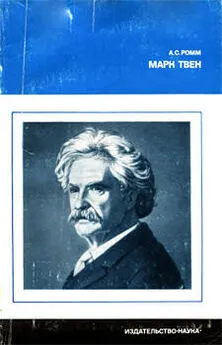Анна Ромм - Марк Твен
- Название:Марк Твен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Ромм - Марк Твен краткое содержание
В книге освещается творческий путь великого американского писателя Марка Твена (1835–1910). Анализируя произведения Твена, автор показывает их идейно-художественное своеобразие, прослеживает процесс творческого формирования писателя, раскрывает природу его сатиры и юмора. В книге Твен предстает как художник, сформулировавший одну из основных тем литературы XX в. — тему несовместимости буржуазной цивилизации и свободного развития человеческой личности. Автор рассматривает преемственную связь между Твеном и американскими писателями XX в.
Источник: http://s-clemens.ru/ — «Марк Твен».
Марк Твен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В «Янки» Твен уже находится в преддверии этой мысли. Взгляд Твена на природу как бы двоится. Его по-прежнему привлекает красота ее первозданных очагов, но он уже не питает к ним полного доверия. Оборотной стороной чудесного пейзажа является изобилие надоедливых насекомых, чье общество невыносимо для человека XIX в. Патриархальная целостность средневекового сознания также имеет свою изнанку. В новом романе Твена природа рассматривается не столько как источник нравственной чистоты, сколько как материал, в руках мастера способный принять любую форму. Средневекового варвара с одинаковой легкостью можно сделать и человеком и зверем, и трагедия средневековья заключается в том, что оно создает все условия для «озверения» людей. В рыцарях культивируются их животные инстинкты, народ превращен в инертную и покорную массу «баранов» и «кроликов». Низведенный до положения стада, он готов принять свое бесправие в качестве естественного состояния. В запуганных и униженных рабах убито чувство человеческого достоинства и, как предстоит убедиться Янки, воля к борьбе.
Процесс превращения «ребенка» в «зверя» в романе многократно иллюстрируется и предстает во множестве разнообразных вариантов. Одним из наиболее живописных является образ феи Морганы. Этой бесчеловечной феодальной властительнице, как и многим ее современникам, не чужды детская наивность и особое варварское простодушие. Не случайно некоторые штрихи ее психологической характеристики вызывают в памяти образы Тома Сойера и Гека Финна: ее и их жизненные реакции в чем-то сходны. Логика их мышления во многом однородна. Так, процесс расшифровки непонятных слов у них протекает совершенно одинаково и, что самое замечательное, приводит к «аналогичным» результатам. Если фея Моргана, понимавшая фотографию «не больше чем лошадь», видит в слове «фотографировать» синоним глагола «убить», то Том Сойер и его «разбойничье» окружение аналогичным образом «переводит» загадочный термин «выкуп». Когда атаман только что организованной шайки Том Сойер разъясняет своим сообщникам, что будущих пленников придется держать в пещере вплоть до получения «выкупа», между ним и одним из его слушателей происходит следующий диалог:
«— Выкупа? А что это такое?
— Не знаю. Только так уж полагается. Я про это в книжках читал… Сказано: надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут.
…А почему же нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?» (6, 17–18).
Едва ли нужно пояснять, что практические следствия этих сходных «лингвистических» экспериментов полярно противоположны и именно эта полярность позволяет измерить качественные различия в детском и варварском сознании. Конечно, кровожадные импульсы средневековой дамы бесконечно далеки от наивного романтизма санкт-петербургских мальчишек, для которых убийство есть понятие сугубо отвлеченное, не имеющее никаких точек соприкосновения с реальной действительностью. Ведь именно тогда, когда романтическая условность становится жизненной реальностью, она вызывает неопредолимое отвращение у Тома и Гека.
В иных отношениях с реальностью находятся садистские склонности феи Морганы. Оттенок наивности, свойственный ее кровожадным эмоциям, ясно показывает, какой податливостью отличается первобытное сознание, как восприимчиво оно ко всякого рода разлагающим влияниям.
Как явствует из всего содержания романа, Твен на данном этапе своего творческого развития еще не совсем отказался от мысли, что на этом «черноземе» истории можно вырастить и здоровый посев. Фея Моргана — не единственная представительница средневековой знати, и рядом с нею в условиях той же исторической действительности существует великодушный и благородный король Артур. Его требуется только слегка «поскоблить», чтобы под «искусственной» личиной короля («Король, — утверждает Янки, — понятие… искусственное», 6, 562) обнаружить человека, и Твен предпринимает этот очистительный процесс на тех же испытанных путях, что в «Принце и нищем». Ведь в смысле уровня своего интеллекта и степени его незрелости король Артур мало отличается от маленького принца Эдуарда. Корруптирующее воздействие королевского звания еще не успело до конца извратить его «детскую» душу. Маска сидит на нем неплотно, между ней и лицом существуют заметные зазоры, и сквозь них видны его еще не стершиеся живые черты. Пройдут века, и маска прирастет к лицам тех, кому суждено ее носить.
История «работает» не на Артура, а на фею Моргану и ей подобных. Пробуждение человека уже в VI в. совершается лишь в порядке единичного опыта, тогда как появление людей типа Морганы «запрограммировано» всей системой господствующих социальных отношений. Внутренняя извращенность этой прелестной, ангелоподобной женщины — результат извращенного хода истории, глубокой противоестественности созданных ею отношений. Ее зоологическая прирожденная жестокость получает опору и в традициях прошлого, и в тенденциях рождающегося будущего.
Характер феи Морганы — это сгусток исторически типичных свойств ее самой и социальной среды, увековеченных историей. Именно эта сгущенность и выводит ее образ на линию исторической перспективы, сообщая ему особый футурологический ракурс. Если Алисанда — «прародительница немецкого языка», то Моргана — скорее всего прародительница инквизиции. В ходе столетий ее уже узаконенная жестокость будет возведена в ранг высшего милосердия и станет стержнем религии, этики, морали.
Янки, взору которого открылись зачатки этого процесса, знает, каково будет его продолжение. Он знает, что принцип сословной иерархии в ходе истории утратит свою изначальную наготу, но останется неизменной основой жизни общества. Важнейшие правовые, юридические и религиозные установления (церковь и тюрьма) уже выполняют свою историческую функцию — освящения и охраны господствующего социального порядка.
Из поколения в поколение «воспитательница» человечества — католическая церковь — будет без устали внушать людям представление о божественном происхождении этого порядка, и унаследованные от нее идеи, войдя в сознание человечества, укрепятся с прочностью, почти непреодолимой. Не поэтому ли и в XIX в. сохранились отношения сословной иерархии — эта опора истории, скрепляющая связь ее времен?
Цепь эта нерасторжима, и Америка составляет одно из ее звеньев. Тщетно Янки пытается отторгнуть свою страну от всемирно-исторического процесса в качестве единственного государства, неподвластного его универсальному закону. Напрасно утверждает он, что зараза благоговения перед званиями и титулами, когда-то жившая в крови и у американцев, уже исчезла. Подобные, сравнительно редкие рецидивы «американизма» не получают опоры в романе, вступая в противоречие со всей логикой его образного развития. Ведь и сама история рабочего Хэнка Моргана (Янки) со всей непререкаемостью свидетельствует о том, что и у современной ему Америки есть своя «аристократия».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: