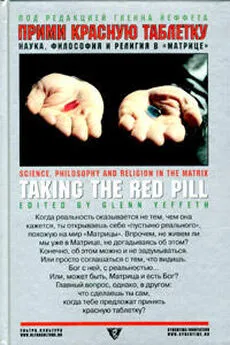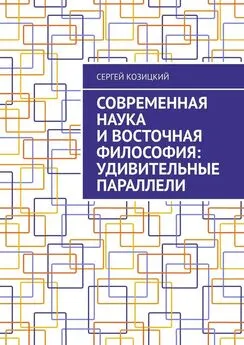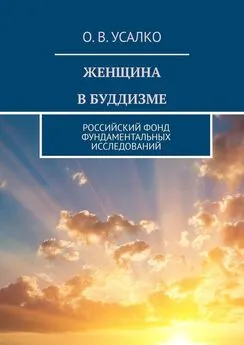Б. Кузнецов - Современная наука и философия: Пути фундаментальных исследований и перспективы философии
- Название:Современная наука и философия: Пути фундаментальных исследований и перспективы философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПОЛИТИЗДАТ
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Б. Кузнецов - Современная наука и философия: Пути фундаментальных исследований и перспективы философии краткое содержание
От издателей:
В книге Б. Г. Кузнецова, которая является продолжением ранее изданных его работ («Разум и бытие», «Философия оптимизма», «Ценность познания» и др.), анализируется взаимодействие философии и фундаментальных научных исследований в условиях научно-технической революции, показывается, как влияет этот прецесс на развитие современных представлений о мире и его познании; в каких направлениях будет идти воздействие философии на науку в будущем. Автор затрагивает ряд вопросов, служащих предметом дискуссий среди ученых.
Книга рассчитана на преподавателей, студентов вузов, научных работников, всех интересующихся философскими проблемами современной науки.
От автора fb2-файла:
Это первая отсканированная мною книга. Так что строго не судите. В книге отсутствовали 91 и 92 страницы! Также обращу Ваше внимание на дату издания книги: готовьтесь к упоминанию Ленина (9 раз) и Маркса (8 раз).
Современная наука и философия: Пути фундаментальных исследований и перспективы философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если нет мирового эфира как универсального тела отсчета, значит, теряет смысл понятие абсолютной одновременности. Исчезнув из картины мира, эфир и отнесенное к эфиру движение унесли вместе с понятием абсолютной одновременности и представление о едином, охватывающем все пространство потоке времени, и представление об абсолютном пространстве.
В 1949 году Эйнштейн писал: «Весьма распространенной ошибкой является мнение, будто специальная теория относительности как бы открыла, или же вновь ввела, четырехмерность физического многообразия (континуума). Конечно, это не так. Четырехмерное многообразие пространства и времени лежит в основе также и классической механики. Только в четырехмерном континууме классической физики „сечения“, соответствующие постоянному значению времени, обладают абсолютной (т. е. не зависящей от выбора системы отсчета) реальностью. Тем самым четырехмерный континуум естественно распадается на трехмерный и на одномерный (время), так что четырехмерное рассмотрение не навязывается как необходимое. Специальная же теория относительности, наоборот, создает формальную зависимость между тем, как должны входить в законы природы пространственные координаты, с одной стороны, и временная координата, с другой» [7].
Четырехмерный, вернее, (3+1)-мерный континуум теории относительности открывает дорогу представлению о мире во всей его сложности как о многомерном пространстве с дополнительным измерением, дающим возможность описывать его растущую размерность. Изменение числа измерений выводит пространственно-временное представление за пределы теории относительности. Мы можем говорить о единстве мегамира и микромира как о многомерном (n-мерном) пространстве, которое становится все более сложным, причем эта растущая сложность изображается (n+1)-м измерением, так что пространственно-временное представление включает (n+1)-мерный континуум.
Теория относительности изменила представление о мегамире, о Вселенной. Сейчас Вселенная рассматривается как нечто целое, обладающее массой, радиусом и, более того, судьбой, прошлым и будущим. Правда, релятивистская космология – это такая ветвь теории относительности, на которой пока больше почек и цветов, чем листьев и плодов. Но она оказывает очень большое воздействие на все отрасли науки, на стиль научного мышления в целом, на философские обобщения. Как это ни парадоксально звучит, теория относительности и релятивистская космология способствуют переходу от собственно геометрических схем к физическим представлениям, основанным на экспериментальной проверке, включающим то, что А. Эйнштейн называл внешним оправданием. Теория относительности сообщает геометрическим соотношениям физический смысл. Она приводит к возможности локального, экспериментального решения проблемы геометрии мира. Позитивное решение данной проблемы всегда было функцией развития науки: локальное воздействие на мир, компоновка объективных сил природы с помощью эксперимента и в производстве – основа и философских выводов. Экспериментальное решение вопросов о бесконечности или конечности пространства, об евклидовых и неевклидовых его характеристиках имеет непосредственное отношение к вопросам об априорности или неаприорности понятия пространства, о происхождении геометрических понятий, о роли эмпирии и теоретических обобщений в познании.
Мы уже приводили замечание В. Нернста о том, что теория относительности Эйнштейна не столько физическая, сколько философская теория. Действительно, можно говорить о большой роли гносеологических критериев в теории относительности. Физика XX столетия гораздо теснее, чем в предшествующий период, связана с гносеологическими проблемами, и это стало особенно заметно в середине столетия. В 1944 году Эйнштейн писал: «В настоящее время физик вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо большей степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают трудности их собственной науки» [8]. Но и в начале столетия это занятие стало для физики более существенным, чем раньше.
Подобно теории относительности, квантовая механика тоже служит исходным пунктом философских выводов, если ее рассматривать в движении и в особенности если иметь в виду принципиальное значение того, что произошло в науке во второй половине XX века. Для выяснения воздействия квантовой механики на философию весьма существенна эволюция от специфически микроскопического аспекта квантовой механики в первой половине столетия к включению квантовых понятий и представлении в теорию макропроцессов и даже в теорию мегамира. Сейчас приходится учитывать квантовую структуру полей при рассмотрении эволюции космоса, ее необратимости, сущности времени и геометрической структуры мирового пространства. Собственно гносеологические вопросы, волновавшие умы после появления квантовой механики, сейчас сочетаются с онтологическими философскими проблемами.
Для современного состояния квантовой механики очень важно возникновение ее релятивистской модификации, т. е. появление релятивистской квантовой теории поля и квантовой электродинамики, открытие позитрона и превращений фотонов в электронно-позитронные пары и этих пар в фотоны, иначе говоря, серия открытий, сделанных в 30-е годы. Одновременно было создано современное учение об атомном ядре на основе открытия нейтрона – нейтронно-протонная модель ядра. В 40-е годы произошло включение в картину микромира мезонов, что открыло дорогу новому этапу в развитии теории микромира. Однако наиболее важные для философского обобщения выводов квантовой механики события произошли во второй половине 40-х и в начале 50-х годов: применение очень мощных ускорителей; сочетание наблюдений над частицами, получавшими в этих ускорителях высокие энергии, с наблюдениями над известными уже в первой четверти века космическими лучами; невероятно быстрый поток вновь открытых элементарных частиц и столь же быстрый рост сомнений и противоречий, связанных с самим понятием элементарности. В те же годы в картину мира вошло новое представление о вакууме и о взаимодействии вакуума с частицами.
Изменились отправные пункты философского обобщения физики микромира, появились требующие нового философского осмысления понятия трансмутации частиц, более глубокой, таящейся в областях меньших, чем атомное ядро, формы причинности, виртуальных частиц и т. д. Но, быть может, еще важнее было то, что физика микромира вышла в мегамир. Первоначально, в особенности в 20-е годы, философское обобщение выводов квантовой механики ставило акцент на специфике микромира, на существовании таких форм причинности, которые свойственны именно микромиру. Констатация подобной специфичности сохраняется, но акцент теперь переходит на связь между тем, что можно назвать субъядерной причинностью, господствующей внутри областей порядка радиуса атомного ядра, и надгалактической причинностью, определяющей эволюцию Метагалактики. При всей значительности научных теорий, разработанных во второй половине столетия, они кажутся менее глубокими и радикальными поворотами фарватера науки, чем теория относительности и квантовая механика. Более того, в XIX веке наука за три четверти столетия изменилась радикальней, чем в XX веке. Достаточно сравнить идеи дофарадеевой и послемаксвелловой физики. Между ними существует гораздо большая дистанция, чем между статьей Эйнштейна о теории относительности, появившейся в 1905 году, и современными статьями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: