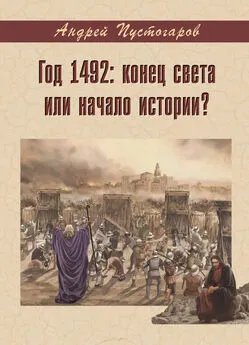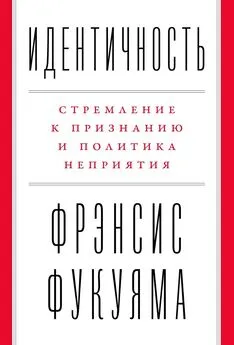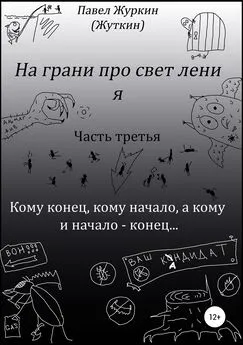Фрэнсис Фукуяма - Триумф глобализма. Конец истории или начало?
- Название:Триумф глобализма. Конец истории или начало?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907149-37-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Фукуяма - Триумф глобализма. Конец истории или начало? краткое содержание
В книге представлены взгляды Ф. Фукуямы и Ф. Броделя, (из работ «Конец истории», «Время мира», отдельных статей), на проблемы глобальной цивилизации, «мир-экономики», а также на попытки отдельных государств (Россия, Китай) противопоставить глобализму собственные политико-социальные системы.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Триумф глобализма. Конец истории или начало? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Распространение принципа равенства не только на людей, но и на другие создания природы сегодня, может быть, и звучит дико, но вызвано оно тем тупиком, в котором находится мысль в вопросе: что есть человек? Если мы в самом деле считаем, что он не способен на моральный выбор или самостоятельное использование разума, если его можно целиком понять в недочеловеческих терминах, то не только возможно, но и неизбежно, что права будут постепенно распространены на животных и на другие создания природы. Либеральная концепция равной и универсальной человечности со специфически человеческим достоинством подвергнется нападению и сверху, и снизу: теми, кто будет говорить, что принадлежность к определенной группе означает больше, чем быть человеком, и теми, кто считает, что человек от нечеловека ничем не отличается. Интеллектуальный тупик, в котором оставил нас современный релятивизм, не дает возможности определенно ответить на любую из этих атак и потому не даст возможности защитить либеральные права в традиционном понимании.
Есть много людей, неспособных удовлетвориться взаимным признанием, какое доступно в универсальном и однородном государстве, поскольку богатый будет и дальше, говоря словами Адама Смита, упиваться своим богатством, а бедный – стыдиться своей нищеты и понимать, что собратья-люди его просто не замечают. Несмотря на коллапс коммунизма, неполная взаимность признания будет источником дальнейших попыток слева найти альтернативу либеральной демократии и капитализму.
Но хотя неравное признание равных людей является наиболее знакомым обвинением против либеральной демократии, есть основания полагать, что более масштабная и в конечном счете более серьезная угроза надвигается справа, то есть дело в тенденции либеральной демократии давать равное признание неравным людям. К этой угрозе мы сейчас и перейдем.
Проблема современного движения самооценки в том, что его участники, живя в демократическом и эгалитарном обществе, редко проявляют волю сделать выбор, что именно следует оценивать. Они готовы идти обниматься с каждым, говорить, что, как бы ни была разбита и ужасна его жизнь, он все равно имеет самоценность, он – кто-то. Из этого действия они никого не хотят исключить как недостойного.
Если это тактика, то может быть, что человек, полностью опустившийся и невезучий, будет поддержан на плаву в критический момент кем-то, кто готов оказать поддержку без разбора ради «человеческого достоинства» или «личности». Но кончится тем, что мать будет знать: можно наплевать на своего ребенка, отец будет знать: можно снова уйти в запой, дочь будет знать: можно врать как хочешь, потому что «штучки, которые проходят в других местах, ничего не стоят в том самом ярко освещенном переулке, где каждый сам за себя». Самоуважение должно быть связано с каким-то успехом, каким угодно скромным. И чем труднее этот успех, тем больше чувство самоуважения; человек больше гордится пройденным обучением на морского пехотинца, чем, скажем, стоянием в очереди за бесплатным супом. Но мы, жители демократического общества, в корне не любим говорить, что определенная личность или образ жизни стоят больше, чем другие.
Есть и еще одна проблема насчет универсального признания, сформулированная вопросом: «Кто оценивает?». Ведь разве не зависит удовлетворение от признания в огромной мере от качества той личности, которая это признание дает? Разве не больше удовлетворение от признания одного, чье суждение вы уважаете, чем многих, которые ничего не понимают? И разве не исходят наивысшие и потому наиболее удовлетворяющие формы признания от все более узких групп людей, поскольку высочайшие достижения могут судить только те, кто достиг аналогичного успеха? Например, физик-теоретик будет, очевидно, куда больше ценить признание своей работы лучшими из своих коллег, нежели журналом «Тайм». И если даже человека не интересуют такие заоблачные достижения, вопрос о качестве признания остается критически важным. Например, будет ли признание, которое человек получает за свое гражданство в большой современной демократии, более удовлетворительным, чем признание, получаемое вне большой, тесно спаянной доиндустриально и сельскохозяйственной общине?
Ведь пусть последняя не имеет политических «прав» в современном смысле, члены этих небольших и стабильных социальных групп, переплетенные связями родства, работы, религии и так далее, взаимно признают и уважают друг друга, пусть даже они часто подвергаются эксплуатации и унижениям со стороны своих феодальных господ. И наоборот, жители современных больших городов, обитающие в огромных жилых квартирах, могут быть признаны государством, но они чужие для тех самых людей, с которыми рядом живут и работают.
Ницше считал, что никакое человеческое превосходство, величие или благородство невозможно иначе, как в аристократическом обществе. Иными словами, истинная свобода творчества может возникнуть только из мегалотимии, то есть желания быть признанным лучше других. Даже если люди рождаются свободными, они никогда не лезут вон из кожи просто, чтобы быть как все. Дело в том, что желание быть признанным высшим другими необходимо, если человек должен быть высшим для самого себя. Это желание – не только основа завоеваний и империализма, оно также необходимое условие для создания чего бы то ни было, что в жизни чего-то стоит, – великих симфоний, картин, романов, этических кодексов или политических систем.
Ницше указывал, что любая форма фактического превосходства должна изначально исходить из недовольства, разделения личности в себе и, в конечном счете, войны против себя со всеми муками, которые она несет: «…человек должен нести в себе хаос, чтобы породить танцующую звезду».
Доброе здоровье и довольство собой – это помехи. Тимос – это та сторона человеческой натуры, которая ищет борьбы и жертвы, пытается показать, что личность есть нечто лучшее и более высокое, чем пугливое, обремененное потребностями, ведомое инстинктами и физически детерминированное животное. Не все люди ощущают эту тягу, но у тех, в ком она есть, тимос не может быть удовлетворен знанием, что его носитель всего лишь равен по ценности другим людям.
Стремление быть неравным выходит на свет во всех аспектах жизни, даже в таких событиях, как революция большевиков, которые стремились создать общество, основанное на полном равенстве людей. Такие люди, как Ленин, Троцкий и Сталин, никак не стремились быть просто равными другим: будь оно так, Ленин никогда бы не уехал из Симбирска, а Сталин вполне мог остаться семинаристом в Тбилиси. Чтобы сделать революцию и создать целиком новое общество, требуются примечательные личности с высокой твердостью, умением видеть, беспощадностью и интеллектом – свойства, которыми первые большевики обладали в полной мере. И при этом общество, которое они стремились построить, намеревалось отменить честолюбие и все те свойства, которыми обладали его строители. Наверное, поэтому все левые движения, от большевиков и китайских коммунистов до немецких «зеленых», упираются в конце концов в кризис «культа личности» своих лидеров, поскольку есть неустранимое противоречие между изотимическими идеалами эгалитарного общества и мегалотимическими типами, необходимыми для его создания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: