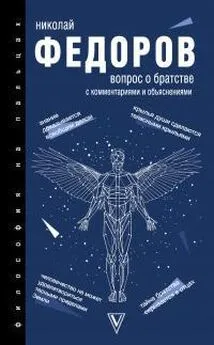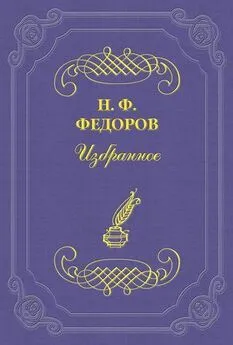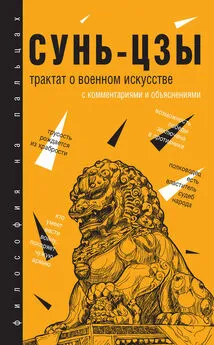Николай Фёдоров - Вопрос о братстве. С комментариями и объяснениями
- Название:Вопрос о братстве. С комментариями и объяснениями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Фёдоров - Вопрос о братстве. С комментариями и объяснениями краткое содержание
Вопрос о братстве. С комментариями и объяснениями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ревивали ( Revivals of Religion) – религиозные подъемы в протестантских странах, преимущественно в США, сопровождавшиеся массовым покаянием, молитвой, обращением населения к Богу. Имели место в 1727, 1792, 1830, 1857, 1882, 1904 гг. Наиболее известным и массовым был ревиваль 1857–1858 гг. в США, когда деловые люди среди дня запирали конторы и магазины, собираясь на молитву по церквам, а театры и другие общественные места обращались в стихийные залы религиозных собраний. Федоров противопоставлял ревивалям, покаяние которых было резким психическим всплеском, не имело положительного исхода (напротив, сопровождалось резкими эксцессами поведения – люди рвали на себе волосы, катались по земле, между ними возникали ссоры, драки и даже убийства), другой – созидательный – тип покаяния, выражавшийся в Древней Руси в строительстве однодневных (обыденных) храмов, а в его философии представший в проекте общего дела (полнота покаяния для философа состоит в исправлении последствий розни, в возвращении к жизни всех жертв греха и розни).
Спиритические фокусы – Федоров имеет в виду увлечение европейского и русского образованного общества спиритизмом. В 1870-х гг. по инициативе русского ученого, химика Д. И. Менделеева была создана Комиссия для изучения медиумических явлений, установившая их иллюзорность и объявившая спиритизм суеверием.
Вопрос, есть ли смерть нечто безусловное или же нет, для позитивистов представляет неразрешимую дилемму. Придав смерти безусловное значение, они признают существование ненавистной им абсолютности; в противном же случае, т. е. если смерть не безусловна, нужно будет признать, что она не выходит из области, доступной нашему ведению и деятельности. Впрочем, учение позитивистов, не признающее в жизни ничего, кроме явлений, не распространяется, по-видимому, на область смерти, иначе (т. е. если бы они были последовательны и в этом случае) им пришлось бы изменить всю систему. Все философии, разноглася во всем, сходятся в одном: все они признают действительность смерти, несомненность ее, даже не признавая, как некоторые из них, ничего действительного в мире. Самые скептические системы, сомневающиеся даже в самом сомнении, преклоняются пред фактом действительности смерти. Только некоторые дикие племена стоят твердо на позитивной почве; они знают явления, как, например, прекращение дыхания, неподвижность членов, охлаждение и т. д., и если им случится констатировать появление в трупе вновь этих признаков, то они не скажут, что человек не умирал, что в нем оставалась еще жизнь и действительная смерть не наступала. В некоторых случаях, когда действительность смерти была уже признана, удавалось возвращать жизнь посредством гальванизма: как бы незначительны подобные случаи ни были, все же они заставляют нас дать более строгое определение так называемой действительной смерти. Действительною смерть может быть названа только тогда, когда никакими средствами восстановить жизнь невозможно или когда все средства, какие только существуют в природе, какие только могут быть открыты человеческим родом, были уже употреблены. Не нужно думать, чтобы мы надеялись на открытие какой-либо силы, специально для этого назначенной; мы полагаем, что обращение слепой силы природы в сознательную и есть это средство. Смертность есть индуктивный вывод; она значит, что мы сыны множества умерших отцов; но как бы ни было велико количество умерших, оно не может дать основание к безусловному признанию смерти, так как это было бы отречением от сыновнего долга, от сыновства. Смерть есть свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, без коего человек перестает быть тем, что он есть и чем должен быть . Увеличивающееся количество умерших отцов не уменьшает, а увеличивает сыновний долг. Для нашего притупившегося чувства непонятно, какая аномалия, какая безнравственность заключается в выражении « сыны умерших отцов », т. е. сыны, живущие по смерти отцов, как будто ничего особенного, ничего ужасного не произошло! Нравственное противоречие « живущих сынов » и « отцов умерших » может разрешиться только долгом всеобщего воскрешения.
Итак, мы столь же мало знаем сущность смерти, действительную смерть, как и действительную жизнь; но, ограничивая себя знанием только явлений жизни, мы суживаем свою деятельность; не признавая же за собой гордого права решить действительность смерти, мы расширяем нашу деятельность, становимся исполнителями воли Божьей и орудиями Христа в деле всеобщего воскрешения. <���…>
<���…> В нашей <���…> школе не может быть антагонизма между верой и наукой, как это теперь. Впрочем, образование, вносимое современною школою, есть также вера, или, правильнее, суеверие, ибо не только учащиеся, но и сами учащие, если они не специалисты-астрономы, приняли на веру учение Коперника, наглядно же и сами учащие незнакомы с движениями небесных тел, и в этом отношении они нередко стоят даже ниже сельских ребятишек, своих учеников.
Здесь и далее, говоря о школе, в которой не должно быть разрыва между наукой и верой, Федоров более ясно и четко излагает ту мысль, которую стремился донести до Ф. М. Достоевского Н. П. Петерсон в присланном ему в декабре 1877 г. изложении учения всеобщего дела. Петерсон ставил вопрос о возможности согласить светское и духовное преподавание в школе, при том что первое основывает «обучение на принятом наукою взгляде на явления мировой жизни, полагающем в основу данные естествознания, второе же ставит «в основу всего Закон Божий, во всем противоположный слепому закону природы». Петерсон указывал, что в школе согласимости между ними не существует: «и Закон Божий, и светские науки» преподаются «независимо одни от других», картина мира, даваемая естествознанием, не находит точек соприкосновения с миросозерцанием религиозным. А затем, следуя Федорову, подчеркивал, что подобное состояние есть лишь временное. Согласие – и взаимодействие – естественных и церковных дисциплин наступит тогда, когда школа, давая и одновременно углубляя знания о законах природы (законах падшего, несовершенного порядка бытия), будет воспитывать из своих учеников орудие восстановления в мире совершенного «Закона Божия», «высшего порядка вещей». Истинная школа должна быть тесно связана с церковью, «является необходимой ее принадлежностью» ( Петерсон Н. П. Чем должна быть народная школа? // Федоров Н. Ф. Сочинения: В 4 т. Т. IV. С. 506, 510, 511, 513). В своем ответе Достоевскому Федоров подробно разворачивает этот тезис, выдвигая проект целостного образовательного комплекса: «Школа – Храм – Музей – Обсерватория», подчеркивая, что христианство в его активном, творческом, богочеловеческом раскрытии несет в себе то представление о должном бытии, о цели и назначении жизни, которое способно согласить все отрасли знания, организовать их в единое действующее целое. Церковь, по убеждению Федорова, призвана стать в полной мере исполнительницею заповеди «Шедше, научите вся языки…», водительницею на дело Божие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: