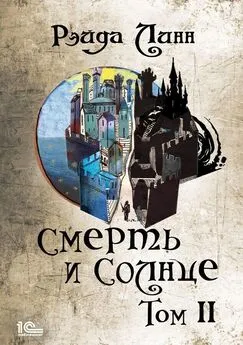Петер Слотердайк - Солнце и смерть. Диалогические исследования
- Название:Солнце и смерть. Диалогические исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-232-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Слотердайк - Солнце и смерть. Диалогические исследования краткое содержание
Солнце и смерть. Диалогические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но в этих констатациях выражена еще не вся истина. Ведь даже если и верно, что у Критической Теории из-за ее принципиально ошибочной основы уже ничего не выходит и ей не удается произвести на свет сколь-нибудь убедительного третьего поколения своих приверженцев – что типично для любого движения, которое ориентируется только на конъюнктуру, – даже если все это и верно, то все же остается фактом, что широкий успех Франкфуртской школы на плоскости диффузного формирования менталитетов по-прежнему заметен сегодня – так же, как и в былые времена. Можно даже утверждать, что весь леволиберальный блок, представляющий собой ментальный центр поля немецкого медиаландшафта, состоит из ее неуверенных приверженцев, то есть из людей, притязающих на преимущество быть более критичными, чем все прочие, склонные к соглашательству. Для этого подавляющего большинства характерно то, что оно выдает себя за меньшинство, которое находится под угрозой, – в результате чего его гегемония подается как сопротивление превосходящей силе.
Х. – Ю. Х.:Я хотел бы выделить из ответа Хабермаса на Ваш сатирически-полемический манифест «Критическая теория мертва» два пассажа. Хабермас в своем письме, присланном в «Цайт» и опубликованном под заголовком «Почта от злого духа», называет Ваше мышление «неоязыческим». К этому он добавляет, что Вы принадлежите к «здоровому авангарду последовавшего за ним поколения», от которого он определенно не ожидает ничего хорошего. Между предикатом «неоязыческий» и словами «здоровый авангард» есть скрытая связь, которую надо прояснить, чтобы оценить намерения автора. Когда читаешь письмо Хабермаса в «Цайт», первым делом замечаешь, насколько он выходит из себя и теряет самообладание, если кто-то отваживается поставить под сомнение систему консенсуса в его школе.
П. С.:Ответ, который дал Хабермас, – это, в чисто техническом плане, ответ священника, если исходить из того определения священника, которое дает Ницше.
Х. – Ю. Х.:Философ как глашатай консенсуса и всего лишь додумыватель того, что было надумано ранее, – и, сверх того, ни слова о тех освобождающих возможностях мышления, которые открыли существенные авторы этого века – Батай, Валери, Канетти [53] Элиас Канетти (1905–1994) – писатель, драматург, культуролог, социальный мыслитель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
, Адорно, Беньямин, Фуко и Делёз. Мне остается только поставить вопрос: может ли вообще исчезнуть это принуждение к ограничению, пропадет ли когда-нибудь эта внутренняя закоснелость академической философии; можно ли будет навести мосты через пропасти?
П. С.:Если позволить себе немного злое суждение, то можно было бы – в полном соответствии с истиной – констатировать: историческое достижение современной школьной философии заключается в том, что она наладила образцовое самоуправление своей избыточностью, – а постоянство ресурсов этой избыточности обеспечивается благодаря статьям, которые публикуются по поводу юбилеев и праздников, составляющих обиходные культы. Официальная философия как предприятие – я подразумеваю сейчас не Критическую Теорию, в частности – это прежде всего система, в которой становится рентабельным приспособление к вынужденному самовоспроизводящемуся существованию. Излишне говорить, что существует и пара серьезных исключений: несколько действительных талантов и отдельные продуктивные отрасли исследования. Но если окинуть взглядом все в целом, то возникает впечатление стагнации. Тому, кто хочет, чтобы ему указали аналогию, можно заметить, что нечто подобное было с лишенными духовности духовными лицами XIX века, которые пошли стезей Протестантской церкви – хотя, видит бог, с их духовностью далеко уйти этой стезей они не могли. Тем усерднее подобного рода люди изыскивали возможности размножиться и угнездиться в экосистемах богатых церковных приходов. Для подобных людей университет – всего лишь экологическая ниша. Профессор философии приспособлен к университету, как пингвин – к жизни в Антарктиде. С точки зрения эволюции академизм в философии есть побочный эффект хронического перепроизводства лиц, защитивших диссертации, что ведет к состязанию в борьбе за ложные преимущества, – и в результате на протяжении жизни нескольких поколений оплачиваются негодные люди и поддерживаются ложные точки зрения. Наблюдения Макса Вебера, связанные с этой темой, сегодня так же актуальны, как и в начале века. Можно ли устранить эти структурные предпосылки для исчезновения духовности, как Вы о том говорите, не знаю; я сомневаюсь в этом, ведь университеты – после всего, что мы узнали о них, – это всецело сконцентрированные на самих себе, полностью невосприимчивые к критике и вряд ли поддающиеся реформированию институции.
Но позвольте мне сказать еще кое-что по поводу этого одиозного термина «неоязыческий», который выделяется, словно огромный валун, среди ровной пустыни мелких клишированных выражений, употреблявшихся в ходе дебатов о моей речи.
Х. – Ю. Х.:То, что это выражение бросается в глаза, наводит на предположение, что его можно рассматривать как симптом. Не стоит ли покружить вокруг этого валуна и рассмотреть его получше?
П. С.:Именно это мы и должны здесь проделать. Мне кажется, если удастся выяснить, что означает «неоязыческий» и когда это выражение было введено в оборот, будет понятно, что, собственно, представляет собой Критическая Теория в стиле Хабермаса и чем она была с давних пор – проектом цивильной религии для немецкого послевоенного общества, созданным на основе интерсубъективного идеализма. Цивильные религии – это проекты желательных иллюзий. В самое начальное время своего существования Критическая Теория описывалась как ключевой феномен в «интеллектуальном основании ФРГ», и при этом делали упор на парафилософский, ментально-политический фактор феномена. То, что в 1960-е годы говорило в пользу Хабермаса, – это его способность тонко чувствовать историческое положение: тогда, учитывая положение дел у немцев, требовалось нечто вроде межконфессионального мира в области социальных наук и в области дискурсов, направленных на критику идеологий. Хабермас попытался прервать традицию «оверкиля», полного переворота вверх дном, осуществлявшегося в сфере той критики общества, которой занималась прежняя Критическая Теория, и в неомарксизме; он сделал ставку на западную интеграцию разума. Это – достижение, которое стоит отметить. Александр Клуге [54] Александр Клуге (р. 1932) – немецкий режиссер, писатель, продюсер, один из идеологов «нового немецкого кино».
как-то весьма умно назвал своего друга Юргена Хабермаса Меланхтоном [55] Филипп Меланхтон (1497–1560) – немецкий гуманист, теолог и педагог, евангелический реформатор, систематизатор лютеранской теологии, сподвижник Лютера.
XX века: это он хорошо подметил и изысканно сформулировал. Ведь точно так же как Меланхтон, в известной мере, выступал юрисконсультом Реформации, хотя сам и не был реформатором, Хабермас в своей самой продуктивной фазе был своего рода дипломатом Критической Теории и менеджером дискурса, обладающим способностью к историческому компромиссу. Я, правда, назвал бы его не столько Меланхтоном, сколько Давидом Фридрихом Штраусом [56] Давид Фридрих Штраус (1808–1874) – немецкий философ, историк, теолог и публицист.
XX века – тем типом ученого, о котором Ницше сказал то, что следовало сказать, в первом из «Несвоевременных размышлений». Но времена изменились, и даже непосвященные стали замечать, что формулы Хабермаса стали негодными. Они не схватывают реальные отношения между коммуникаторами – и так и неясно, был в них этот недостаток с самого начала или возник впоследствии, в результате изменения исторических обстоятельств. Если внимательно присмотреться, то даже в исходном пункте непринужденного, дружеского разговора, создающего консенсус, можно обнаружить скрытые монологические предпосылки: диалог на поверку окажется скрытым монологом. Диагноз Лумана был сух: здесь приходится иметь дело с проявлением староевропейской концепции истины, причем слово «староевропейский» надлежит толковать как синоним слова «монологический». Хотя модель Хабермаса закладывалась как теория диалога, ей присуща монологическая черта, которую уже невозможно утаивать; ей присуще даже якобинское ядро – если понимать под якобинством постоянное требование достижения консенсуса любой ценой. Понимание à la Хабермас основано на том, что участники диалога подвергаются предпониманию – такой подготовке к пониманию, в ходе которой, как он надеется, они позволят контролировать себя методически. Но стоит взглянуть на это несколько отстраненным взглядом, как можно будет заметить: обязательный, «вмененный» консенсус и его формирование с использованием контролируемых коммуникативных процедур являет собой нечто вроде основанной на вере религиозной фантазии, которая возникла по образу и подобию Тайной вечери [57] То есть обстановка полного консенсуса представляется по аналогии с атмосферой, которая царила во время последней беседы Христа с его учениками за ужином; они были согласны с Ним во всем, потому что Он заранее подготовил их к пониманию и консенсусу.
. Однако вся эта аналогия обходится без упоминания о хлебе и вине на столе конференции, организованной Господом [58] То есть за столом на Тайной вечере собрались уже причащенные, признавшие еще до беседы с Христом Его божественность и власть над собой.
. К этому столу не был приглашен ни один из тех, кто не был бы уже предварительно подчинен. Я подчеркиваю: эти замечания навеяны не какими-то отвлеченными размышлениями, а самими текстами. Хабермас в своих публикациях, увидевших свет позднее, открыто рекламирует свою близость к теологическим мотивам, по крайней мере – к мотивам из иудейско-христианской традиции. Применительно к своим делам он говорит о «дискурсивном сжижении духовных религиозных содержаний» [59] В оригинале игра слов: «Verflüssigung» означает «сжижение»; дискурс точно так же «сгущает» ту религиозную духовность, которая существует разреженно в мыслях и чувствах.
. Тем самым обозначена задача, которую можно было бы принять всерьез, если бы она была решена хорошо. Проблема с Хабермасом заключается в том, что он верит в свою собственную теорию <���консенсуса> только при хорошей погоде, – полагает, что она действует только при благоприятных внешних условиях. А вот в том, что касается стратегии, он – последовательнее, чем кто бы то ни было, мыслит в категориях «друг – враг». Карл Шмитт [60] Карл Шмитт (1888–1985) – немецкий юрист, философ и политический теоретик, является одной из самых ярких и спорных фигур в теории права и политической теории XX века, благодаря работам о политической власти и политическом насилии.
гораздо ближе к нему, чем Карл Барт [61] Карл Барт (1886–1968) – швейцарский кальвинистский теолог, один из основателей так называемой диалектической теологии.
.
Интервал:
Закладка:

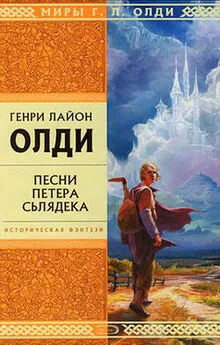
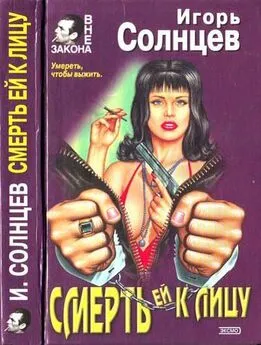

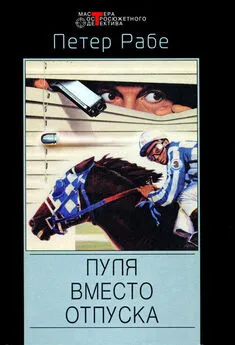
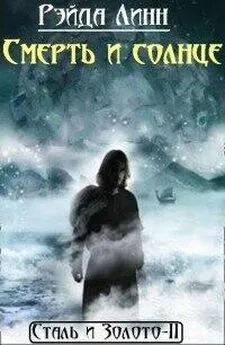
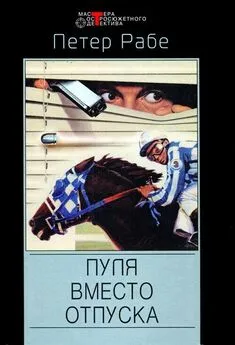

![Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)