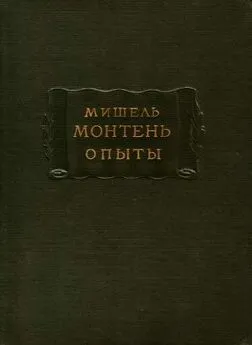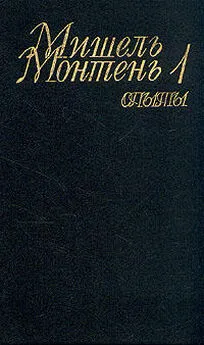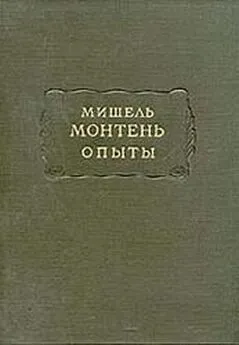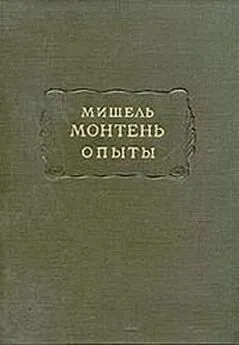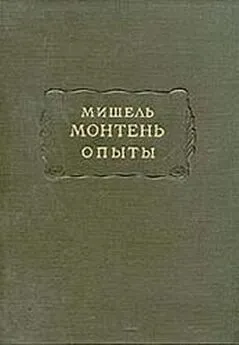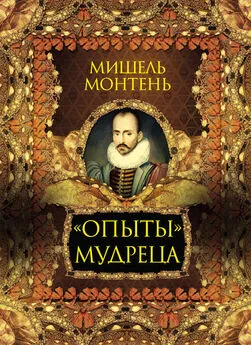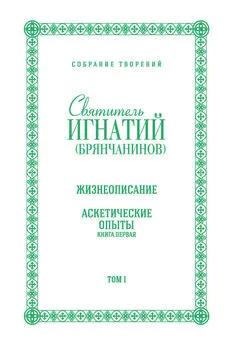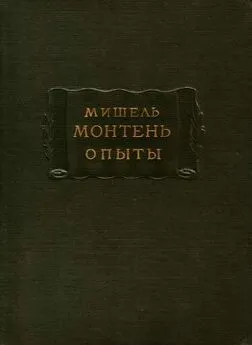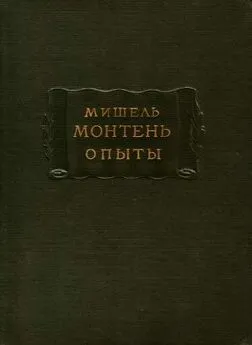Мишель Монтень - Мишель Монтень. Опыты. Книга первая
- Название:Мишель Монтень. Опыты. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Академии Наук
- Год:1954
- Город:Москва-Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мишель Монтень - Мишель Монтень. Опыты. Книга первая краткое содержание
В первый том включены 57 эссе. Дополняют том статьи Фаины Абрамовны Коган-Бернштейн «Мишель Монтень и его „Опыты“» и Марка Петровича Баскина «Мишель Монтень как философ».
Мишель Монтень. Опыты. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
cedebant pariter, pariterque ruebant
Victores victique, neque his fuga nota neque illis. [754]
В те времена победы в битвах давались с большим трудом, чем теперь, когда все сводится к натиску и бегству: primus clamor atque impetus rem decernit [755]. И, разумеется, вещь столь важная и в нашем обществе подверженная стольким случайностям, должна находиться всецело в нашей власти. Так же точно советовал бы я выбирать оружие, действующее на наиболее коротком расстоянии, такое, за которое мы можем лучше всего отвечать. Очевидно же, что для нас шпага, которую мы держим в руке, гораздо надежнее, чем пуля, вылетающая из пистолета, в котором столько различных частей — и порох, и кремень, и курок: откажись малейшая из них служить — и вам грозит смертельная опасность.
Мы не можем нанести удар с достаточной уверенностью в успехе, если он должен достигнуть нашего противника через воздух;
Et quo ferre velint permittere vulnera ventis:
Ensis habet vires, et gens quaecunque virorum est,
Bella gerit gladiis. [756]
Что касается огнестрельного оружия, то о нем я буду говорить подробнее при сравнении вооружения древних с нашим. Если не считать грохота, поражающего уши, к которому теперь уже все привыкли, то я считаю его мало действенным и надеюсь, что мы в скором времени от него откажемся.
Оружие, которым некогда пользовались в Италии, — метательные и зажигательные снаряды — было гораздо ужаснее. Древние называли phalarica особый вид копья с железным наконечником длиною в три фута, так что оно могло насквозь пронзить воина в полном вооружении; в стычке его метали рукой, а при защите осажденных крепостей — с помощью различных машин. Древко, обернутое паклей, просмоленной и пропитанной маслом, зажигалось при бросании и разгоралось в полете; вонзившись в тело или в щит, оно лишало воина возможности действовать оружием или своими членами. Все же мне представляется, что когда дело доходило до рукопашного боя, такие копья вредили также и тому, кто их бросал, и что горящие головешки, усеивавшие поле битвы, мешали во время схватки обеим сторонам:
magnum stridens contorta phalarica venit
Fulminis acta modo. [757]
Имелись у них и другие средства, заменявшие им наш порох и ядра: средствами этими они пользовались с искусством, для нас, вследствие нашего неумения с ними обращаться, просто невероятным.
Они метали копья с такой силой, что зачастую пронзали сразу два щита и двух вооруженных людей, которые оказывались словно нанизанными на одно копье. Так же метко и на столь же большом расстоянии поражали врага их пращи: saxis globosis funda mare apertum incessentes: coronas modici circuli, magno ex intervallo loci, assueti traiicere: non capita modo hostium vulnerabant, sed quem locum destinassent [758]. Их осадные орудия производили такое же действие, как и наши, с таким же грохотом: ad ictus moenium cum terribili sonitu editos pavor et trepidatio cepit [759]. Галаты, наши азиатские сородичи, ненавидели эти предательские летающие снаряды: они привыкли с большей храбростью биться врукопашную: Non tam patentibus plagis moventur: ubi latior quam altior plaga est, etiam gloriosius se pugnare putant: idem, cum aculeus sagittae aut glandis abditae introrsus tenui vulnere in speciem urit, tum, in rabiem et pudorem tam parvae perimentis pestis versi, prosternunt corpora humi [760]. Эта картина очень походит на битву воинов, вооруженных аркебузами.
Десять тысяч греков во время своего долгого и столь знаменитого отступления повстречали на своем пути племя, которое нанесло им большой урон стрельбой из больших крепких луков; стрелы же у этих людей были такие длинные, что пронзали насквозь щит вооруженного воина и его самого, а взяв такую стрелу в руки, можно было пользоваться ею, как дротиком. Машины, изобретенные Дионисием Сиракузским [761] для метания толстых массивных копий и ужасающей величины камней на значительное расстояние и с большой быстротой, очень схожи с нашими изобретениями [762].
Кстати будет вспомнить забавную посадку на муле некоего мэтра Пьера Поля, доктора богословия, о котором Монтреле рассказывает, что он имел обыкновение ездить верхом по улицам Парижа, сидя боком, по-дамски. В другом месте он сообщает, что гасконцы имели страшных лошадей, приученных круто поворачиваться на всем скаку, что вызывало великое изумление у французов, пикардийцев, фламандцев и брабантцев, ибо, как он говорит, «не привычно им было видеть подобное» [763]. Цезарь говорит о свевах: «Во время конных стычек они часто соскакивают на землю, чтобы сражаться пешими, а лошади их приучены стоять в таких случаях на месте, чтобы они могли, когда понадобится, снова вскочить на них. По их обычаю, пользоваться седлом и потником — дело постыдное для храброго воина, и они так презирают тех, кто употребляет седла, что не боятся даже в малом количестве нападать на крупные их отряды» [764].
В свое время я был очень удивлен, увидев лошадь обученную таким образом, что ею можно было управлять одним лишь хлыстом, бросив поводья на ее шею, но это было обычным делом у массилийцев, которые пользовались своими лошадьми без седел и без уздечек:
Et gens quae nudo residens Massilia dorso
Ora levi flectit, frenorum nescia, virga [765].
Et Numidae infreni cingunt. [766]
Equi sine frenis, deformis ipse cursus, rigida cervice et extento capite currentium. [767]
Король Альфонс, тот самый, что основал в Испании орден рыцарей Повязки или Перевязи [768], установил среди прочих правил этого ордена и такое, согласно которому ни один рыцарь не имел права садиться верхом на мула или лошака под страхом штрафа в одну марку серебром; я прочел это недавно в «Письмах» Гевары, которым люди, назвавшие их «золотыми», дают совсем не ту оценку, что я [769].
В книге «Придворный» [770] говорится, что в прежнее время считалось непристойным для дворянина ездить верхом на этих животных. Наоборот, абиссинцы, наиболее высокопоставленные и приближенные к пресвитеру Иоанну [771], своему государю, предпочитают в знак своего высокого положения ездить на мулах. Ксенофонт рассказывает, что ассирийцы на стоянках держали своих лошадей спутанными — до того они буйны и дики, а чтобы распутать их и взнуздать, требовалось столько времени, что внезапное нападение врага могло привести войско в полное замешательство; поэтому свои походные лагери они всегда окружали валом и рвом [772].
Кир, великий знаток в деле обхождения с лошадьми, муштровал своих коней и не разрешал давать им корм, пока они не заслужат его, хорошо пропотев от какого-нибудь упражнения.
Скифы, когда им приходилось голодать в походах, пускали своим коням кровь и утоляли ею голод и жажду:
Venit et epoto Sarmata pastus equo. [773]
Критяне, осажденные Метеллом, так страдали от отсутствия воды, что принуждены были пить мочу своих лошадей [774].
В доказательство того, насколько турецкие войска выносливее и неприхотливее наших, приводят обычно то обстоятельство, что они пьют только воду и едят только рис и соленое мясо, истолченное в порошок, месячный запас которого каждый легко может унести на себе, а также, подобно татарам и московитам, кровь своих лошадей, которую они солят.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: