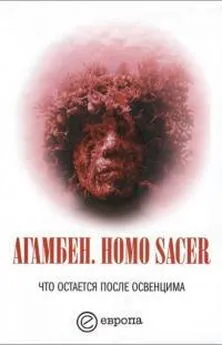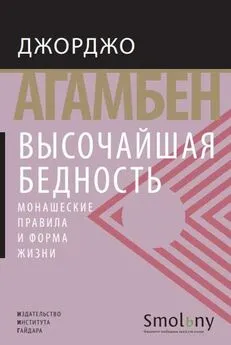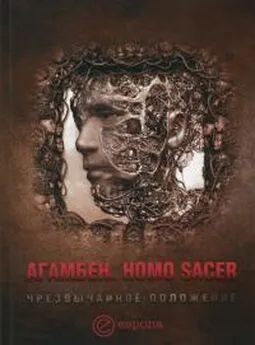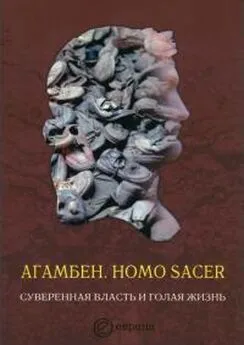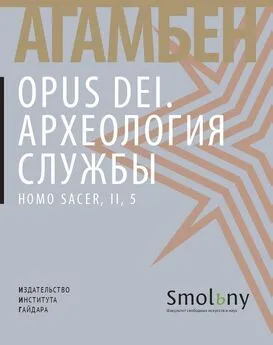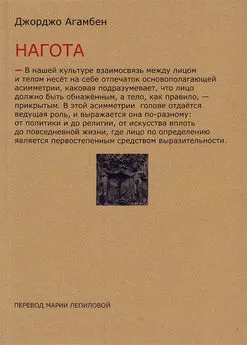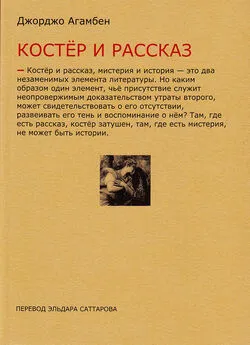Джорджо Агамбен - Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель
- Название:Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джорджо Агамбен - Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель краткое содержание
Джорджо Агамбен (р. 1942) — выдающийся итальянский философ, автор трудов по политической и моральной философии, профессор Венецианского университета IUAV, Европейской школы постдипломного образования, Международного философского колледжа в Париже и университета Масераты (Италия), а также приглашенный профессор в ряде американских университетов.
Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Именно это разделение выживания и жизни опровергает каждое слово свидетельства. Оно говорит, что свидетельство может существовать только потому, что не–человеческое и человеческое, живущий и говорящий, мусульманин и выживший не совпадают, потому что между ними существует неразделимое разделение. Только потому, что оно свойственно языку как таковому, и именно потому, что оно свидетельствует о способности говорить лишь посредством неспособности, его авторитет зависит не от фактической правды, от соответствия сказанного и сделанного, воспоминания и произошедшего, а от незапамятной взаимосвязи неизреченного и сказанного, внешнего и внутреннего языка. Авторитет свидетеля заключается в его способности сказать исключительно во имя неспособности говорить, то есть в том, что он является субъектом. Свидетельство гарантирует не фактическую правду высказывания, хранящегося в архиве, а его неархивируемость, его нахождение вне архива — необходимое бегство от языка и еще более — от памяти и забвения. Поскольку свидетельство существует только там, где есть невозможность сказать, а свидетель присутствует только там, где имела место де–субъективация, мусульманин действительно является полноценным свидетелем, и потому его невозможно отделить от выжившего.
Следует рассмотреть то особое положение, которое здесь занимает субъект. То, что субъект свидетельства (более того, любая субъективность, поскольку быть субъектом и свидетельствовать — в конечном счете одно и то же) является остатком, не следует понимать в том смысле, что он выступает (согласно одному из значений греческого слова ypostasis) в роли субстрата, налета или осадка, который исторические процессы субъективации и де–субъективации, очеловечивания и обесчеловечивания оставляют как базис или основание своего становления. Подобная концепция повторяла бы диалектику основания, в которой нечто — в нашем случае голая жизнь — должно быть отделено и уничтожено, чтобы человеческая жизнь могла быть приписана непосредственно субъектам (в этом смысле мусульманин является тем способом, при помощи которого жизнь еврея уничтожается, чтобы могла быть произведена арийская жизнь). Основание здесь — это функция telos'a, который является достижением или основанием человека, очеловечивания нечеловеческого. Именно эту перспективу необходимо безоговорочно поставить под вопрос. Мы должны перестать рассматривать процессы субъективации и де–субъективации, то, как живущий становится говорящим, а говорящий — живущим, и исторические процессы вообще, словно они имеют telos, апокалиптический или профанный, в котором живущий и говорящий, не–человек и человек (или любые другие термины исторического процесса) соединяются в одном завершенном человечестве, составляют одно осуществленное тождество. Это не означает, что, будучи лишенными цели, они обречены на безумие или тщеславие бесконечного разочарования или дрейфа. У них нет цели, но есть остаток; в них или под ними не существует основания, но между ними, в их середине находится неизменяемое различие, в котором каждый термин может занимать позицию остатка и может свидетельствовать. По–настоящему историческим является то, что свершается не в направлении будущего, и даже не в направлении прошлого, но как остаток нечто среднего. Мессианское Царство не является ни будущим (тысячелетие), ни прошлым (Золотой век) : оно — оставшееся время.
В 1964 году в интервью немецкому телевидению, отвечая на вопрос ведущего, что, по ее мнению, остается от Европы догитлеровского периода, в которой она жила, Ханна Арендт сказала: «Что остается? Остается родной язык» ( Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache). Что такое язык как остаток? Как может язык пережить субъекта и тем более говоривший на нем народ? И что означает говорить на языке, который остается?
Случай мертвого языка является здесь поучительным. Каждый язык можно считать полем, которое пересекают два противоположных течения: одно из них идет в направлении обновления и трансформации, а второе — в направлении инвариантности и сохранности. Первое в языке соответствует зоне аномии, второе — грамматической норме. Точкой пересечения этих противоположных течений выступает говорящий субъект как auctor, который каждый раз принимает решение о том, что можно и что нельзя сказать, о выразимом и не–выразимом на этом языке. Когда в говорящем субъекте разрывается связь между нормой и аномией, между выразимым и не–выразимым, наступает смерть языка, а в сознании появляется новое языковое тождество. Таким образом, мертвый язык — это язык, в котором нельзя противопоставить норму и аномию, обновление и сохранность. О таком языке справедливо замечают, что на нем больше не говорят, то есть в нем невозможно установить позицию субъекта. Уже сказанное формирует здесь закрытое и лишенное внешнего целое, которое может быть передано лишь в виде свода ( corpus ) или извлечено из архива памяти. С латынью это произошло в тот момент, когда проявился разлом между sermo urbanus и sermo rusticus (городской и сельской речью), возникший в сознании говорящих уже в республиканскую эпоху. До тех пор пока их оппозиция воспринималась как внутреннее полярное напряжение, латынь оставалась живым языком и субъект чувствовал себя говорящим на едином языке; когда она была разрушена, нормированная часть отделилась в виде мертвого языка (или языка, который Данте называл grammatica ), а аномическая часть дала жизнь народным романским диалектам.
Рассмотрим теперь случай Джованни Пасколи — поэта, писавшего на латыни на рубеже XIX и XX веков, в эпоху, когда латынь на протяжении уже многих столетий была мертвым языком. Здесь индивиду удалось взять на себя роль субъекта мертвого языка, то есть восстановить в нем возможность противопоставлять высказываемое и невысказываемое, обновление и сохранность, которая, по определению, уже невозможна. На первый взгляд может показаться, что такой пишущий на мертвом языке поэт, поскольку он назначает себя в нем субъектом, проводит настоящее воскрешение языка. Впрочем, именно так и происходит в тех случаях, когда примеру одиночного auctor’a следуют другие — как это случилось между 1910 и 1918 годами с диалектом в местечке Форно в Пьемонте, где последний старик, владевший местным диалектом, «заразил» им группу молодых людей, которые начали разговаривать на нем; или в случае ново–еврейского языка, когда целое сообщество поставило себя в положение субъекта чисто религиозного языка. Однако если взглянуть на эту ситуацию более внимательно, она окажется сложнее. Пока пример поэта, пишущего на мертвом языке, остается сознательно единичным, а он сам продолжает говорить и писать на другом, родном ему языке, он заставляет язык пережить говоривших на нем субъектов, он производит его как неизреченное среднее (или свидетельство) между живым и мертвым языком. Он — своего рода филологический nekyia [285] В античных греческих ритуальных практиках и литературе словом nekyia ( ήνέκυια) называли ритуал гадания с помощью вызывания душ умерших, некромантии.
— приносит свой голос и свою кровь в жертву призраку мертвого языка, чтобы тот вернулся к речи. Любопытный auctor, который дает полномочие и призывает к слову абсолютную невозможность говорить.
Интервал:
Закладка: