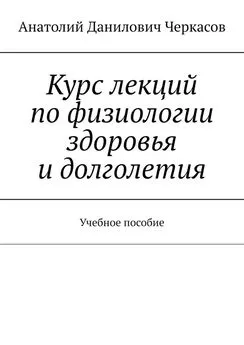Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]
- Название:Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2018
- ISBN:978-5-386-10054-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] краткое содержание
Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы начали наше введение в философское уморасположение, читая поэтов, писателей. Я и дальше буду пытаться описать это уморасположение, умонастроение так, как оно сказалось поэтически в качестве настроения. Но и тут стоит помнить, что речь идет не о «поэтической философии», а о границе между философией и поэзией. Они касаются друг друга по этой границе, но переходить ее в обе стороны было бы недоразумением. Опять-таки, поэт – это поэт, писатель – это писатель (и то же мы скажем об историке или математике). Чтобы стать поэтом и писателем, тоже некоторым образом нужно «специализироваться» (уже в кавычках), овладеть особым искусством-ремеслом, а философия тут при чем? Пушкин стихотворение написал, а не философему – это я из него сделал философему, неизвестно на каких основаниях. Лев Толстой, конечно, пережил что-то, написал письмо, потом художественную вещь, но художественную , правда? А я тут пришел со своими философскими вопросами, претендую на глубокомысленное толкование. Ничем не оправданная претензия.
Итак, философ, свободный от внутренних требований научной строгости (он ведь не теоретик-экспериментатор), религиозной серьезности (он ведь не духовно-практикующий подвижник), художественного мастерства (он ведь не владеет никаким художественным ремеслом), вместе с тем претендует владеть началами некой универсальной мудрости, универсального искусства. Какая, скажем прямо, безответственная претензия!
Что же, оставить эту претензию на всеобщность, чтобы не стать всеобщим посмешищем, или лучше вдуматься в смысл собственно философской ответственности – особой строгости, серьезности, чуткости, зоркости, вкуса? Словом, каково ремесло философа? Только уяснив себе это, можно будет говорить о мастерстве в этом ремесле или о неуклюжести, неумении. Согласимся, в философском уморасположении ума касается всё, ум же в этом расположении касается всего по-своему, но как расположен ум, когда он оказывается в философской ответственности перед собой, очертить не так-то легко.
Скорее мы чувствуем растерянность. Оказывается, что философии негде приклонить голову, негде быть. Она обитает в ка ком-то странном месте, в непонятном пространстве: ни то, ни се, ни наука, ни религия, ни мировоззрение, ни поэзия, вообще неизвестно что… Это очень плохое положение философии, поэтому нам так важно понять ее собственную специальность, ее узкую специализацию – т. е. то единственное, а не всеобъемлющее, не вообще какое-то переживание, чувство и т. д., ее единственный и собственный интерес, поэтому – предмет, т. е. то, с чем она имеет дело. Если мир, то где? Покажите мне пальцем, где я имею дело с миром. Если душа, то покажите мне ее, а иначе это ссылка на что? Когда мне химик говорит про газ, он мне его изолирует и как-то покажет. Если его законы работают на идеальных телах, значит, он сделает эти тела максимально приближенными к идеальным – кругленькими, гладенькими. А у вас что? – спросят нас мастера своего дела. Извлеките нам на свет, покажите нам, пускай в приближении каком-то, в умозрении, но… Где, как? Значит, вопрос о том, что такое философия, поставлен, в общем-то, достаточно остро: в чем же уникальная, единственная специализация ее в целом?
У нас нет никаких авторитетов – так, чтобы можно было сказать: а вот у Аристотеля на одной странице сказано… У него не просто сказано, он ведь к этому каким-то образом подошел. Он же шел долго, 20 лет провел в платоновской Академии, в рассуждениях, путем вопросов и ответов, в какой-то там скрытой или явной сократической беседе, и только тогда он сказал: вот, видите, как. Например, «душа есть некоторым образом всё». А я скажу: вот Аристотель говорит, что душа есть некоторым образом всё, и теперь мы будем (поскольку Аристотель очень авторитетный философ) этого придерживаться. Нет. Мы, может быть, это будем знать, но мы не будем это мыслить философским образом, потому что не будем понимать, как мы к этому подошли.
Скажем, вы ссылаетесь на Хайдеггера. Основной вопрос, по Хайдеггеру, это вопрос о бытии. Но Хайдеггер – это один из серьезнейших философов, не по тому, о чем он учит, а по отношению к философской мысли, к тому, как мыслит философ, когда он мыслит философски. Почему он мне близок (несмотря на его «нацизм»), и я постоянно буду на него ссылаться? Потому что среди всех философов XX века, с которыми я так или иначе знаком, характер философского мышления, т. е. того, как человек мыслит, у Хайдеггера просто абсолютно точен. Тем более интересно выяснить, как это, двигаясь очень философским образом, почти так, как Сократ, Платон и т. д., сам с собой разговаривая, он приходит к таким вещам, которые в ужас приводят. Это должно нам поставить предостерегающий знак: философия – не гарантия того, что мы выйдем к какой-то там правильной, хорошей, благой мысли. Философия может нас завести черт знает куда. Хайдеггер говорил о своем опыте мысли (и эту фразу можно начертать на вратах философской Академии вместе с дельфийской: «узнай себя», платоновской «не геометр да не войдет» и кантовской «отважься мыслить»). «Кто крупно мыслит, должен много блуждать» («Wer groß denkt, muss groß irren» [28] Aus der Erfahrung des Denkens, Pfullingen: Neske Verlag, 1963. S. 17.
(1947)). Можно сказать иначе: там, где речь заходит о предельных вопросах (вот, пожалуй, хорошее название для предмета философии, любой вопрос может довести до того предела, где он коренится в философии), там, где уясняются вопросы предельного характера, там, иначе говоря, где лежат истоки философии, и ошибки бывают предельны. Это опасные пределы, похожие на обрывы. И это надо помнить: занятие философией, мышлением, как говорят, отвлеченным, – опасное занятие. Мы над пропастью, и никто нас не поймает, не спасет, кроме той же мысли, что и завела нас сюда. Вот почему тут нужна отвага.
Как и всё в человеческих руках – чем мощнее, тем опаснее. Физика в принципе дала уже в руки человеку энергетический источник, атомную энергию, которая может обогреть весь земной шар, но и уничтожить. Вот эта связь человеческого достижения, т. е. мощи, могущества и опасности – это условие человеческого существования, а вовсе не зло какого-то человеческого дела. Это человек таков, а потому и его дела.
Так вот, Хайдеггер мыслит философски. Это значит, если мы откроем первую страницу его фундаментального труда под названием «Бытие и время», увидим эпиграф из платоновского диалога «Софист». Фраза звучит таким образом: «Ибо очевидно ведь вам-то давно знакомо то, что вы собственно имеете в виду, употребляя выражение „сущее“, а мы верили, правда, когда-то, что понимаем это, но теперь пришли в замешательство». (244а). Это начало, а дальше Хайдеггер спрашивает: «А у нас есть ответ на этот вопрос, что такое бытие? Никоим образом, хуже того – мы даже забыли, что это вопрос» . Для Хайдеггера это вопрос, это загадка всех загадок: что значит быть? Не что там есть, какие там силы, космос, история и прочее – это предметы разных наук. Но что значит быть? И первая глава развертывает эту трудность, эту проблему: что в философии, начиная от Платона до Гегеля, бытие считается самым пустым и неинтересным понятием, потому что оно всеобщее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)