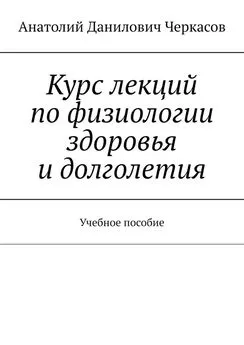Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]
- Название:Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2018
- ISBN:978-5-386-10054-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] краткое содержание
Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В мире много разных специальных софий-искусств, но что же такое, спрашивали мы, софия сама по себе, к которой философа влечет его филия? О чем говорит народная мудрость, предназначенная для всех? Какова всеобщая мудрость, ум, которым и в котором мы понимаем, „как каждому и всему лучше быть“ (Платон. Федон. 97с) [93]. Или иначе: если каждый мастер владеет софией своего ремесла (плотницкого, музыкального, управлением своим домашним хозяйством, кораблем или городом), то какой же умелостью умен ум философа, каково его искусное мастерство, какова софия философа?
Вот что говорит Аристотель:
„Мудрость в искусствах ( τὴν δὲ σοφίαν ἔν τε ταῖς τέχναις) мы признаем за теми, кто безупречно точен (τοῖς ἀκριβεστάτοις) в [своем] искусстве; так, например, Фидия мы признаем мудрым камнерезом, а Поликлета – мудрым ваятелем статуй, подразумевая под мудростью, конечно, не что иное, как добродетель, [т. е. „добротность“, совершенство], искусства“ (EN. VI, 7, 1141a5). „Софией“ названа здесь высшая степень мастерства каждого в своем деле, когда мастерство достигает художественной единственности (шедевра).
Ну а сама-то философия, любящее стремление к этой совершенной точности в искусствах, искусна, точна (софийна) в каком мастерстве? В чем ее специальный профессионализм, говоря по-современному?
Ты, спросят сапожники, слесари, инженеры, художники, ученые (математики, физики, социологи, лингвисты, музыканты, акробаты…) – любительница мастерства мастеров своего дела, архитекторов, политиков, поэтов… – твое-то собственное искусство-мастерство каково, в чем оно? [94]
Аристотель отвечает (это продолжение приведенных выше слов):
„Однако мы уверены, что существуют некие мудрецы в общем смысле, а не в частном и ни в каком другом [ὅλως οὐ κατὰ μέρος οὐδ᾿ ἄλλο τι]“.
Вот так! – Каждый может быть мудр в своем деле, а есть мудрецы „вообще“. „Вообще“ этого ὅλως значит „вполне“, „в целом“, т. е. это „мастера“ в том „мастерстве“ которым сделано или держится всё в целом – и совокупный мир человеческого хозяйства с его мастерами своего дела, и „хозяйство“ самого мира. Ну, разумеется, „бог один иметь бы мог этот дар“. „Такая наука могла бы быть или только или больше всего у бога“ (Метафизика. 983а10). Однако (продолжим цитату) всё же есть такие мудрецы, как Гомер говорит в „Маргите“:
Боги не дали ему землекопа и пахаря мудрость,
Да и другой никакой.
Итак, ясно, что мудрость – это самая точная из наук (ὥστε δῆλον ὅτι ἀκριβεστάτη ἂν τῶν ἐπιστημῶν εἴη ἡ σοφία» (EN, 1141a15).
Это может быть, и ясно, но из того, что кому-то не дали никаких «мудростей»-умений, яснее отнюдь не становится, чем же и как же занят этот человек, обделенный «частными» мудростями. Маргит – герой комической поэмы (Аристотель, конечно, знал ее), единственный сын богатых родителей, отличался глупостью и поразительной самоуверенностью:
Многие знал он дела, но все одинаково плохо [95].
Таково, признаемся, крайне двусмысленное положение философа – между божеством и самоуверенным дилетантом [96]. И чем больше «софий» (теперь уже «самих по себе») открывают нам наши истории философий и «мудростей» разных культур, тем беспомощней оказывается наше универсальное дилетантство. Иными словами, чтобы не оказаться Маргитом, тем более смешным, чем более мудрый вид придает он своему дилетантству (а надежнее всего выдать свою невразумительность за эзотерическую сверхразумность), необходимо уяснить софийность самой философии, свойственное ей и производящее ее искусство-мастерство, форму, делающую мысль философской.
Мы видим, что мысль, обращенная к миру, предполагает саму возможность умопостижения, т. е. некий образ , который был бы одновременно формой мысли (мысленной, идеальной формой) и формой-устройством сущего, чтобы внимание ко всему сущему в целом, и само это сущее в целом каким-то образом могли совпасть. Ведь такое совпадение мы и называем истиной. Вот этот момент может быть наименован софийным моментом. То есть философия выясняет, когда и как мысленное построение (говоря прямо, – выдумка) может мыслиться как вещь. Например, уже геометрические фигуры или числа ведут себя по своим законам, как если бы они были независимыми от мысли существами. Пифагорейцы и некоторые платоники считали, что это и есть искомая реальность сама по себе. Ведь то, что воспринимают чувства, изменяется, течет: восприятие есть, но за «что» восприятия отвечает мысль. Поэтому, всматриваясь в восприятия, мы ищем в нем черты, как мы говорим, умопостижимые, умозримые. Еще один момент, который мне тут важен, это идея того, что софия, как устроенность мира, как замысел художника, это замысел прекрасной вещи (недаром Аристотелю пришли на ум Фидий и Поликлет). Прекрасная не только потому, что перед нами что-то вызывающее восхищение, а по гораздо более простым критериям. Мы говорим, что эта табуретка прекрасна, потому что она хорошо сделана, там всё подогнано так, как надо, она годная табуретка и потому пригожая. Красота, говорит Платон, – это прямое, круглое, твердое, правильное [97]. Но Платон не кубист, он имеет в виду идеальные формы, фигуры зримой правильности и точности, свободно переходящие в логические определения. Софийно совершенное искусство самого бытия проступает для мысли в идеальной определенности формы, как строгие пропорции музыкальных интервалов определяют космос музыкальных гармоний, как Евклидовы «Начала» (по-гречески, Στοιχεῖα – Элементы) определяют построение пяти правильных многогранников – элементарных тел умозримого космоса, по Платону (см. «Тимей»). Вот почему не знающим геометрии был закрыт вход в Платонову академию.
Почему это для нас важно и как это помогает решать некоторые исходные наши затруднения? Конфликт между бесконечным множественным разнообразием разного рода вещей, которые одни, на наш взгляд, красивы, другие некрасивы, – если их увидеть в устройстве целого, то ни одна вещь не может быть некрасивой и ненужной, если это целое охвачено формой и пронизано числовыми отношениями. Тут, как мы говорим: «Из песни слова не выкинешь». Даже отвратительное существо – стоит его вытащить из целого, как само целое станет отвратительным, ущербным.
Филия философии, говорили мы, обращена к бытию, к сущему в целом. Это значит, во-первых, не к множеству, которое мы перебираем и не можем успокоиться, потому что никогда всё не соберем, но и не чему-то самому по себе прекрасному, красивому, одному, поставленному на место множества или рядом с ним. Такое многое-как-единое мы некоторым образом можем наблюдать и изучать в произведении искусства, которое всё – огромное количество всякого рода деталей, но это такое их соединение, софийное соединение, когда все детали на своем месте и они все необходимы для того, чтобы целое было видимо как бы поверх множества деталей, помимо них. Вы хорошо знаете: чутье или вкус художника, поэта или живописца говорит ему, что можно картину испортить, имея в виду ее улучшить. Главное – уловить момент, когда – всё, больше не трогай. Или: всё еще не то, всё еще не то, потом – всё. Но это не значит, что я на место огромного количества слов в стихе или штрихов и мазков на картине поставил что-то одно, чистое, голое и т. д. Нет, они все складываются как слова в песне, из которой ни одного слова нельзя выкинуть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)