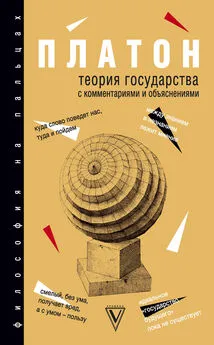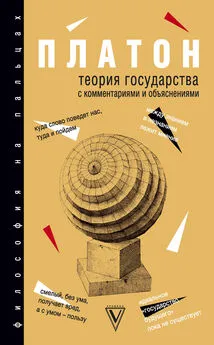Платон - Теория государства. С комментариями и объяснениями
- Название:Теория государства. С комментариями и объяснениями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- ISBN:978-5-17-106662-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Платон - Теория государства. С комментариями и объяснениями краткое содержание
«Государство» Платона – первая в истории человечества попытка построить модель общества, в котором все были бы счастливы, и модель государства, где каждый бы делал то, что у него лучше получается. Эта идея до сих пор остается актуальной. Сборник органично дополняют диалоги «Критон» и «Менон». В первом, являющемся образцом теории общественного договора, философ рассуждает о справедливости и несправедливости, а во втором – о непреходящей роли добродетелей людей.
Все тексты снабжены подробными комментариями и разъяснениями.
Теория государства. С комментариями и объяснениями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Где же и какие разумеешь ты? – спросил он.
– Их много и других, – отвечал я, – но особенно, если хочешь понять, это – удовольствия обоняния, ибо они, и не предваряемые страданием, бывают вдруг чрезвычайно сильны, и по прекращении, не оставляют никакого страдания.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Следовательно, мы не должны верить, что прекращение страдания есть чистое удовольствие, или прекращение удовольствия есть чистое страдание.
– Конечно, нет.
– Впрочем, так называемые удовольствия, переходящие в душу через тело, при своей многочисленности и силе, бывают такого рода, что должны быть почитаемы прекращением страданий.
– Действительно.
– Не таковы же ли и предчувствия будущих благ и страданий, происходящие от ожидания?
– Таковы.
– Знаешь ли, – спросил я, – что такое они, и чему подобны?
– Чему?
– Признаешь ли ты в природе что-нибудь – одно высоким, другое низким, третье средним?
– Признаю.
– Думаешь ли, что кто-нибудь, стремясь к середине, иначе представляет себе это, чем стремлением кверху? И что став в середине и видя, откуда начал он двигаться, но не созерцавши подлинной высоты, почитает себя стоящим не в ином месте, как наверху?
– Клянусь Зевсом, – сказал он, – я никак не думаю, чтобы такой человек представлял себе это иначе.
– А если бы опять стремился он вниз, – продолжал я, – то, думая, что стремится вниз, не справедливо ли бы он думал?
– Как не справедливо?
– И не потому ли он представлял бы себе все это, что не имеет опытного познания об истинно высоком, среднем и низком?
– Очевидно уже.
– Так удивился ли бы ты, если бы неопытные в истине, имея не здравые мнения о многих других вещах, оказались таковыми относительно удовольствия, страдания и средины между ними, – если бы, то есть, стремясь к страданию, находили его поистине таким и действительно страдали, а переходя от страдания к середине, упорно полагали бы, что переходят к полному удовольствию, и, подобно тому, как незнающие белого цвета белым, черным цветом почитают серый, по незнанию удовольствия, обманчиво судили бы о страдании.
– Клянусь Зевсом, не удивился бы, – сказал он. – Гораздо удивительнее было бы, если бы оказалось иначе.
– Вдумайся же в следующее, – продолжил я, – голод, жажда и тому подобное не суть ли какие-то лишения, в состоянии тела?
– Как же.
– А невежество и непонимание не есть ли также лишение в состоянии души?
– И очень-таки.
– Но это лишение не тот ли вознаграждает, кто принимает пищу и имеет ум?
– Кто же иначе?
– А вознаграждение бывает истиннее от того ли, что меньше, или от того, что больше сущно?
– Очевидно, от того что больше сущно.
– Которым родам приписываешь ты сущность более чистую? Например, хлебу ли, питью, мясу и всякой вообще пище, или роду истинного мнения, познания, ума и всякой вообще добродетели? Суди следующим образом: держащееся всегда того, что себе подобно, бессмертно и истинно, что и само так существует, и в том бывает, – держащееся этого не больше ли, по твоему мнению, существует, чем то, что никогда не держится себе подобного, но держится смертного, и само бывает в том и таково?
– Что держится всегда себе подобного, – сказал он, – то гораздо превосходнее.
– А сущность всегда себе подобного причастна сущности больше ли, чем знания?
– Никак.
– Что же? Больше, чем истины?
– И не это.
– Если же оно меньше причастно истины, то меньше и сущности?
 Этими вопросами Сократ наводит собеседника на мысль, что сущность вещи (вещь сама в себе) – это то же самое, что знание и истина в смысле объективном. Знать вещь действительно – значит знать ее в сущности, а знать вещь в сущности – то же, что получить знание действительное или истинное.
Этими вопросами Сократ наводит собеседника на мысль, что сущность вещи (вещь сама в себе) – это то же самое, что знание и истина в смысле объективном. Знать вещь действительно – значит знать ее в сущности, а знать вещь в сущности – то же, что получить знание действительное или истинное. 
– Необходимо.
– И вообще – всякого рода попечения, относящиеся к служению телу, не меньше ли причастны истины и сущности, чем попечения, относящиеся к служению душе?
– Да, и гораздо меньше,
– И самое тело не так же ли, думаешь, относится к душе?
– Думаю, так же.
– Но не полнее ли бывает наполняемое больше существенным и само действительно больше существенно сущее, чем то, что наполняется менее существенным и что само менее существенно?
– Как же не полнее?
– Если, стало-быть, приятно наполняться подходящим к природе, то наполняемое существенно и больше существенным – более существенное и истинное доставляет нам наслаждение истинным удовольствием. А что принимает меньше существенного, то менее также истинно и твердо наполняется и вкушает больше неверное и менее истинное удовольствие.
– Это совершенно неизбежно, – сказал он.
– Поэтому неопытные в благоразумии и добродетели и всегда занимающиеся пирушками и тому подобным несутся, как видно, вниз, а потом опять к промежутку, и так блуждают во всю жизнь. Не переходя за эту черту, они на истинно высокое и не взирали никогда, и не возносились к нему, не наполнялись существенно сущим и не вкушали твердого и чистого удовольствия, но, подобно рогатому скоту, всегда смотрят вниз и, наклонившись к земле, пасутся за столами, откармливаются, совокупляются и, от жиру лягаясь и бодаясь железными рогами и оружием, по ненасытности, убивают друг друга, так как дырявая их бочка не наполняется ни существенным, ни в существенном.
– Ты, Сократ, изображаешь жизнь многих, будто оракул, – сказал Главкон.
– Но не необходимо ли к их удовольствиям примешиваться и скорбям, которые суть образы истинного удовольствия и получают такие оттенки от взаимопоставления их цветностей, что являются сильными в своих противоположностях и возбуждают в безумцах неистовую любовь, заставляющую их драться друг с другом, как дрались под Троей, говорит Стесихор, за образ Елены, не зная, который был истинный.
 Стесихор – древнегреческий лирический поэт, представитель хоровой мелики (лирической поэзии).
Стесихор – древнегреческий лирический поэт, представитель хоровой мелики (лирической поэзии).
Говорят, что когда виновник Троянской войны троянец Парис проезжал по Египту, Прометей отнял у него Елену и вместо Елены Прекрасной дал ему ее образ. С этим-то образом Парис, по словам Стесихора, якобы и приплыл в Трою. 
– Весьма необходимо быть чему-то такому, – сказал он.
– Что же? Разве не вызывается нечто подобное и яростным началом нашей души? Человек творит то же самое либо из зависти – вследствие честолюбия, либо прибегает к насилию из-за соперничества, либо впадает в гнев из-за своего тяжелого нрава, когда бессмысленно и неразумно преследует лишь одно: удовлетворить жажду почестей, победы и гнева?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: