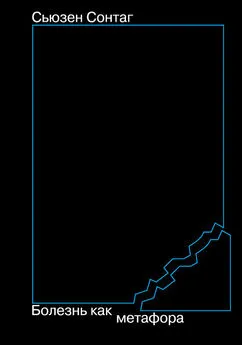Сьюзен Зонтаг - Болезнь как метафора
- Название:Болезнь как метафора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-308-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сьюзен Зонтаг - Болезнь как метафора краткое содержание
Спустя десять лет, со вспышкой новой стигматизированной болезни, изобилующей мистификациями и карательными метафорами, появилось продолжение к «Болезни…» – «СПИД и его метафоры» (1989) – эссе, расширяющее поле исследования до пандемии СПИДа.
В настоящей книге представлены обе работы, в которых Сонтаг показывает, что «болезнь не метафора и что самый честный подход к болезни, а также наиболее “здоровый” способ болеть – это попытаться полностью отказаться от метафорического мышления».
Болезнь как метафора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По мере того как избыточные чувства стали восприниматься позитивно, исчезли и пренебрежительные аналогии между ними и ужасными болезнями. Теперь болезнь виделась как катализатор избыточного чувства. Туберкулез – болезнь, обнажающая сильные желания; она выявляет, вопреки самой личности, то, что личность раскрывать не хочет. Противопоставляются не умеренные и избыточные страсти, но страсти скрытые и те, что выносятся наружу. Болезнь «рассекречивает» желания, о которых заболевший мог и не подозревать. Болезни – как и пациенты – подлежат расшифровке. Именно в скрытых страстях видится источник болезни. «Тот, кто желает, но не действует, сеет чуму», – писал Блейк в одной из своих дерзких «Притч Ада».
Ранние романтики искали превосходства в желании и в «желании желать» – якобы развитом в них сильнее, чем в других. Предполагалось, что неспособность реализовать идеалы витальности и абсолютной непосредственности превращала человека в первоочередного кандидата в чахоточные. Современный романтизм исходит из противоположного принципа – желания обуревают других, а герой (повествование обычно ведется от первого лица) либо испытывает желания весьма слабовыраженные, либо вовсе их не испытывает. Предшественники теперешних романтических «героев бесчувственности» встречаются в русских романах XIX века (Печорин в «Герое нашего времени», Ставрогин в «Бесах»); и все же они подлинные герои – не находящие покоя, желчные, самоубийственные, мучимые своей неспособностью чувствовать. (Даже их угрюмые, совершенно погруженные в себя потомки: Рокантен в «Тошноте» Сартра и Мерсо в «Постороннем» Камю – похоже, изумлены собственной бесчувственностью.) Пассивный, вялый антигерой, властвующий над современной американской литературой, – это существо, порожденное обыденностью или оргией бесчувственности; не грозящее себе гибелью, но осмотрительное; не хмурое, порывистое, жестокое – а просто переживающее распад личности. Одним словом, в терминах современной мифологии, идеальный кандидат на ракового больного.
Может показаться, что взгляд на болезнь, при котором она воспринимается не как наказание за грехи, а как выражение внутренней сущности, менее моралистичен. Однако этот взгляд оказывается ровно таким же морализаторским и карательным. В случае современных болезней (некогда ТБ, ныне – рак), романтическая идея о том, что болезнь служит выражением характера, неизбежно ведет к неутешительному выводу: характер сам провоцирует болезнь, ибо ему не удается себя выразить. Страсть проникает вглубь, поражая и разрушая отдаленнейшие клетки.
«Больной сам создает свой недуг, – писал Гроддек, – он и есть причина болезни, и нам не следует искать других». «Бациллы» возглавляют представленный Гроддеком список чисто «внешних причин», вслед за которыми следуют «простуда, переедание, чрезмерное увлечение алкоголем, работа и все остальное». Гроддек утверждает, что «поскольку нам неприятно вглядываться в самих себя», врачи предпочитают «атаковать посредством профилактики, дезинфекции и тому подобного внешние причины», вместо того чтобы обращать внимание на истоки болезни. Согласно более поздней формулировке Карла Меннингера: «Болезнь – это отчасти то, что мир сделал с жертвой, но главным образом то, что жертва сотворила со своим миром, с самим собой. <���…>» Столь нелепые и опасные воззрения перекладывают бремя болезни на пациента и не только ослабляют его способность оценить перспективы предлагаемого лечения, но и в конечном итоге отвращают пациента от помощи врачей. Исцеление ставится в зависимость от уже подвергшейся тяжким испытаниям самооценки пациента. В 1923 году, за год до смерти, Кэтрин Мэнсфилд писала в «Дневнике»:
Скверный день. <���…> ужасная боль и так далее, и слабость. Ничего не могла делать. Слабость была не только физической. Чтобы выздороветь, я должна исцелить свое «я». <���…> Это предстоит сделать мне одной и немедленно. В этом корень того, что я не выздоравливаю. Мой разум не подчиняется.
Мэнсфилд не только винит себя в болезни, но и считает, что сможет избавиться от запущенного легочного туберкулеза исцелив свое «я» [20] «Мэнсфилд – писал Джон Мидлтон Мюррей [муж Кэтрин] – убедила себя в том, что ее телесное здоровье зависит от ее душевного состояния. Ее постоянно занимала мысль о том, как ей “излечить душу”; в конце концов, к моему величайшему сожалению, она решила отказаться от лечения и жить так, словно ее тяжелый физический недуг был чем-то второстепенным или даже несуществующим».
.
Оба мифа – о туберкулезе, а сегодня о раке – возлагают ответственность за болезнь на саму личность. И все же метафоры рака отличаются особой жестокостью. Благодаря романтическим воззрениям на определенные типы характеров и заболеваний, болезням, якобы происходящим от переизбытка чувств, приписывается некое величие. Болезням же, которые-де вызваны эмоциональной подавленностью, сопутствует, главным образом, стыд – это оскорбление эхом отдается в работах Гроддека и Райха и многих попавших под их влияние авторов. Взгляд на рак как на болезнь недостаточной чувствительности осуждает пациента; такая точка зрения вызывает у нас не только жалость, но и презрение. Мисс Джи, из стихотворения Одена 30-х годов, «прошла мимо влюбленных парочек» и «отвернулась». Затем:
Мисс Джи молилась в боковом приделе,
Она решила на колени встать.
«Да не введи меня во искушенье,
Хорошей девочкой Ты помоги мне стать».
Прошли мимо нее и дни, и ночи,
Как волны над потопленной кормой.
Застегнутая наглухо, она приехала
На велосипеде к доктору домой.
Она приехала на велосипеде к доктору
И в хирургическую сразу же звонит:
«О, доктор, я себя неважно чувствую,
И боль не покидает ни на миг».
И доктор Томас осмотрел ее.
Он осмотрел внимательней мисс Джи.
Потом, идя мыть руки к умывальнику,
Сказал: «И что ж вы раньше не пришли».
Доктор Томас сидел в ожидании ужина,
И хотя жена накрывать подавала знак,
Он, раскатывая хлеб в мелкие катышки,
Произнес: «Забавная вещь – этот рак.
Никто не знает его причины,
Хотя кто-то и думает, что узнал.
Как будто скрытый убийца
Выжидает, чтоб вам нанести удар.
Он выбирает бездетных женщин
И мужчин, отошедших от дел.
Как будто творящий огонь, в них зажатый,
Так на волю прорваться сумел» [21] Перевод М. Попцовой. – Примеч. пер.
.
Туберкулезник мог быть преступником или изгоем; на ракового больного смотрят проще, со снисхождением, как на неудачника. Рак Наполеона, Улисса С. Гранта, Роберта А. Тафта и Хьюберта Хамфри [22] Хьюберт Хамфри (1911–1978) – американский политик-демократ, 38-й вице-президент США. – Примеч. пер.
воспринимался как следствие их политических поражений и отказа от честолюбивых замыслов. Что касается умерших от рака знаменитостей, чья жизнь не укладывается в «парадигму неудачников», подобно Фрейду и Витгенштейну, то их рак был классифицирован как чудовищное наказание за жизнь, проведенную в отречении от инстинктов. (Немногие помнят, что Рембо тоже умер от рака.) Напротив, болезнь, унесшая жизни Китса, По, Чехова, Симоны Вайль, Эмили Бронте и Жана Виго [23] Жан Виго (1905–1934) – французский кинорежиссер, один из первых сюрреалистов в истории кинематографа. Примечательно, в контексте настоящей работы, что Виго болел туберкулезом, но скончался от лейкемии – в возрасте 29 лет. – Примеч. пер.
, знаменовала апофеоз в той же мере, в какой была личным поражением.
Интервал:
Закладка: