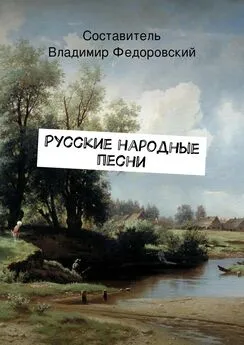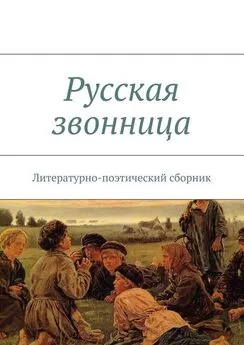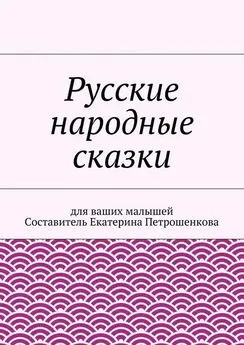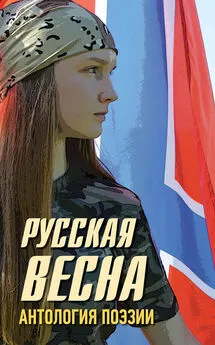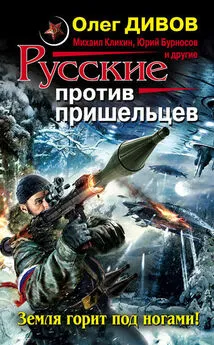Array Коллектив авторов - Русская философия смерти. Антология
- Название:Русская философия смерти. Антология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ЦГИ»
- Год:2014
- Город:Москва, Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-152-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Русская философия смерти. Антология краткое содержание
Русская философия смерти. Антология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ужас смерти сковал их уста, грозным призраком смерть встала и веет крылами над их головами, и вчерашние марксисты поклоняются святой Троице, вместо Карла Маркса уже шепчут имя Христа, стараясь себя уверить в своей искренности, ища поддержки для своей веры в других. Страх смерти делает их изобретательными, но не обогащает скудной мистической фантазии. Духи, нежити, двойники, переселения душ, раздробление души, мистический реализм, мистический анархизм, христианская политика, Дионис и Христос, смерть и бессмертие. Бедная гармония, и сладостный экстаз муки и блаженства, любовь к ногам и рукам, единая любовница, двуединая, триединая – как залог бессмертия, проклятие социал-демократии, благословение ей же – вот весь скудный и противоречивый мистический багаж. И в одном только согласие, в одном только весь этот сумбурный вздор пропитывается единством – в отрицании живого мира, каким мы его видим, чувствуем, любим. Ему объявляют непримиримую войну во имя запредельной вечной жизни. Поистине трагична эта пестрая и бессильная толпа арлекинов, размахивающих картонным мечом мистики 15, против мельничных жерновов грозной стихии жизни. Но придут новые волны и отметут прочь эту накипь паразитической жизни, и свежие бодрые люди, выросшие в атмосфере борьбы и труда, горя и радости жизни, борющиеся со смертью, – внесут новую здоровую струю в русскую литературу.
Путь ликвидируют свои дела остатки радикальной беспочвенной буржуазии, поторопившейся присосаться к революции и раздавленной реакцией. В великой борьбе пролетариата еще не раз эти гордящиеся своим «внеклассовым» положением элементы будут растерты в прах сталкивающимися жерновами революции и реакции, каждый раз будут они воспевать сладострастную смерть, и будут прислушиваться к ним больные духом социальные отбросы, пытающиеся и на хребте борьбы, как и в спокойное время, упрочить свое красивое благополучие. Напрасно ищут они сочувствия пролетарских масс и уверяют, что мы на повороте к новой жизни; напрасно соблазняют они эту единственную движущуюся вперед силу современной истории таинственными, мистическими, над человеком и природой стоящими силами, которые-де ими открыты. Слишком хорошо знает рабочий мощь своей руки, чтобы искать поддержки у гг. Триродовых 16, ради их прекрасных глаз, гипнотизирующих казаков. Ему не нужны ни высшие силы, ни подобные посредники.
Как бы ни опошляли своими очаровательными поэмами и прелестными сказками талантливые Сологубы пролетарское движение и интеллигенцию, ставшую на его сторону, – чары их бессильны. Умирайте вместе, но без меня – вот жестокий ответ, который несет нам действительность.
1908П. С. Юшкевич. О современных философско-религиозных исканиях
…Город рассекает связь человека со вселенским бытием 1. «Натуральный» человек, как указывалось выше, прирожденный, естественный, так сказать, пантеист. Как и для Франциска Ассизского 2, для него волк – братец, цикада – сестрица. Это свое родство с космосом он чувствует непосредственно. Чтобы признать или почувствовать его, он не нуждается ни в глубоких философских умозрениях, ни в тонкой интуиции художника. Tat twam asi – «это – ты» – это верховное положение индийской мудрости, утверждающее тождество между собой всякого бытия, есть инстинктивная философия. В вековечном круговороте природы все виды бытия для него равноценны, эквивалентны. При таком пантеистическом мироощущении он легче может переносить роковое явление смерти.
Своим афоризмом, что удивление начало философии, греки остроумно и тонко подчеркнули теоретико-познавательную сторону философии, которой она обращена к науке. Но они не оставили нам столь удачной формулы для другого момента, которым философия тесно примыкает к религии. Я имею в виду страх смерти или, как бы выразился Мечников, отсутствие инстинкта смерти. «Бог есть боль страха смерти», – говорит Кириллов у Достоевского, выражая, по существу, ту же мысль, какую имеет в виду, например, Гюйо 3, замечающий, что «религия представляется большей частью размышлением о смерти». Этот второй мотив, не менее важный по своему значению, чем первый, тянется через всю историю философской и религиозной мысли, принимая каждый раз, в зависимости от общественного развития и обстановки, иную конкретную форму и облекаясь самыми тонкими идейными вариациями. Если момент удивления соотносителен с «теоретическим» разумом, но разум «практический» в значительной степени проникнут вторым из вышеуказанных мотивов.
Не надо, разумеется, ограничиваться исключительно биологическим пониманием этого мотива. В общественной жизни он меняет до неузнаваемости свой характер и получает самое разнообразное социальное выражение. Как половым чувством не ограничивается все богатство содержания социально-психологического явления любви или социального факта семьи, так и страх смерти не исчерпывает собой всего содержания тех психологических и социальных образований, которые им питаются.
Какую роль в построениях наших идеалистов и мистиков играла проблема смерти, говорить об этом много не приходится. «Основным трагизмом жизни, – писал еще в начале своих философских «превращений» г. Бердяев, – является трагизм смерти. Смерть эмпирически неустранима, и эта безысходность сталкивается с живущей в человеческой душе жаждой жизни, жаждой бессмертия, жаждой бесконечного совершенства и бесконечного могущества. Наука и развитие общественных отношений могут поставить человека в лучшие условия существования и уменьшить количество смертей от болезни и нужды, но они бессильны против трагизма смерти. Перед трагедией смерти «позитивист» останавливается и чувствует свое бессилие и беспомощность» 4.
Те же речи о всемогуществе смерти и бессилии «позитивистов» мы встретим у любого из мистиков, которые не прочь даже поиздеваться над этим бессилием. Так, например, г. Булгаков не без едкости говорит об одном «для всех и особенно для довольных людей неприятном обстоятельстве – это смерти».
Обстоятельство действительно неприятное и даже страшно неприятное. И лучшее, по-видимому, что придумали в этом отношении люди, выражено еще в знаменитом двустишии Шиллера:
<���…> Ты пугаешься смерти? Ты желаешь жить бессмертным?
Живи в целом! Когда тебя давно не будет – оно останется!
Этот шиллеровский афоризм есть, в сущности, лишь парафраз и обобщение старого житейского наблюдения, выраженного в пословице: «На людях и смерть красна». Грубо, но в общем правильно, эта пословица дает ответ «позитивистов», а значит, и человечества – ибо человечество по своему существу «позитивно» – на проблему смерти. Мы не знаем, когда человечество приобретет тот инстинкт смерти, о котором мечтает Мечников 5. Пока же оно научилось побеждать это явление только в массе, только коллективно. Место разрушаемой цивилизацией – и в особенности городом – связи с универсальным бытием начинает занимать почти исключительная связь с социальным бытием, дозволяющая личности преодолеть (а не разрешить, конечно) трагизм смерти. Если не хорошо быть человеку одному, то особенно это не хорошо лицом к лицу с проблемой смерти и производными от нее вопросами. Только жмясь друг к другу, только живя жизнью коллективности, может личность задержать процесс душевного «лучеиспускания» в космическую пустоту, созданную вокруг нас цивилизацией города. В социальном, так сказать, пантеизме должна личность искать возмещение за утерянный натуральный пантеизм.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: