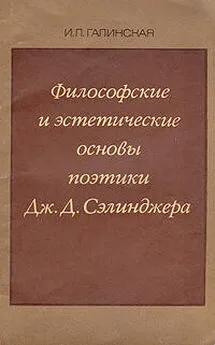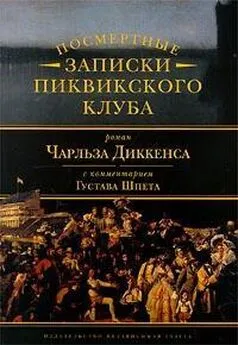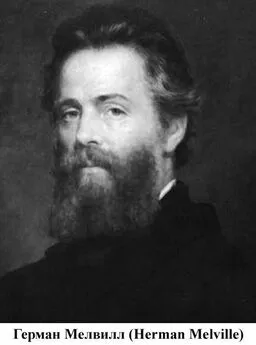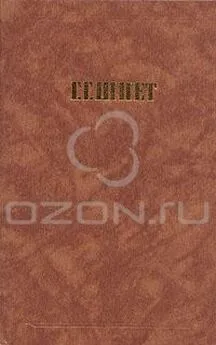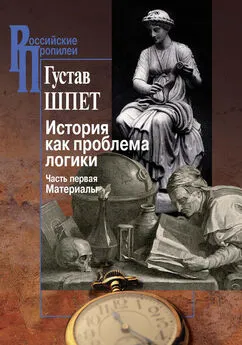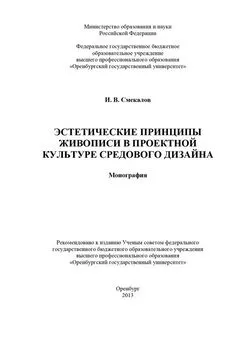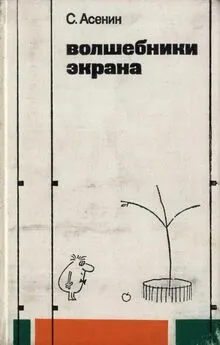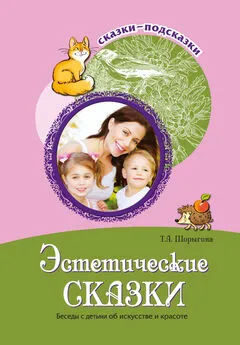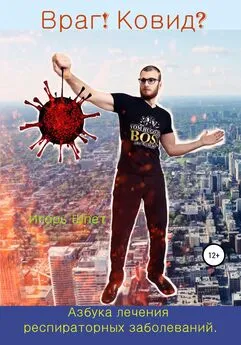Г Шпет - Эстетические фрагменты
- Название:Эстетические фрагменты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Г Шпет - Эстетические фрагменты краткое содержание
Эстетические фрагменты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Насколько бы поэтому безразличную к задачам поэтики форму передачи самого по себе сюжета мы ни взяли, в самой элементарной передаче сюжет уже в самом себе обнаруживает "игру" форм, действительно, аналогичную формам поэтическим. Мы здесь уже встретим параллелизм, контраст, превращение, цепь звеньев и т.п. Действительно, "содержание" принимает вид формы, роль материи по отношению к которой берет на себя то, что принято называть "мотивом" в поэтике сюжета и что можно бы назвать обще, по отношению ко всякому содержанию, элементом. Способ конструирования содержания из элементов - так сказать, схемы сложения атомов материи в молекулы - в его динамике и есть то, на предметном сознании чего фундируются эмоциональные переживания, настроения, волнения и т.д. Дальнейший анализ, конечно, и в "атоме" обнаружит форму, и потому прав, например, Веселовский, когда говорит о "формулах" и "схемах" не только сюжетов, но и мотивов.
Сравним с этой точки зрения, например, сюжеты: Эдип, Дон-Жуан, Прометей, Елизавета Венгерская. Независимо от известных нам поэтических форм изображения этих сюжетов, можно говорить о разных эмоциональных тонах, в которые окрашиваются в сознании эти сюжеты. Царь Эдип может вызвать ужас, отвращение, подавленность и другие чувства, но, кажется мне, едва ли все согласятся признать этот сюжет сам по себе эстетическим7. Равным образом, такие, например, сюжеты, как Дон-Жуан, Прометей, Фауст, не вызывают, по крайней мере на первом плане, интереса эстетического. Напротив, сколько бы легенда ни морализировала - но, как известно, есть и прямо имморальные разработки этого сюжета, - чудо с цветами Елизаветы прежде всего вызывает эффект эстетический.
Сюжет Елизаветы Венгерской красив - значит, что в "естественной" данности мотивов он предуказывает форму изложения, овнешнения, при которых неизбежен эстетический эффект. В нем есть, так сказать, прирожденная внутренняя поэтическая форма; без нее нет и самого сюжета. В самом деле, чтобы ввести в содержание его, непременно надо затратить время на изображение моментов: характер ее супруга; ее отношение к возлюбленному (по более "христианской" версии - к бедным); внезапное появление грозного супруга, застающего ее за преступным деянием. Затем вдруг - непременно вдруг - цветы! Вот - это-то "вдруг", неожиданная развязка и вызывает эффект. Но в то же время именно эта необходимость закончить "речь" и показывает, что без обращения к "знаку", без "внешности" не было бы эстетического переживания. Тем не менее - хотя бы потому, что есть повод к такому "обращению", здесь можно говорить об особом эстетическом моменте, который если и не составляет принципиально особой прибавки в качестве самостоятельного фактора, так как он поглощается собственно поэтическою формою, к общему впечатлению, но все же он является каким-то добавочным коэффициентом, предувеличивая действенную силу самой этой формы. Он в общем как бы повышает эстетические потенции предмета, делает их "легче" выразимыми в формах канонических.
Итак, и на чистом мыслительном, разумном, интеллигибельном акте понимания может располагаться своя эстетическая атмосфера. Если от предметности смысла обратиться к коррелятивным колебаниям самого акта, то в смысле можно подметить и еще некоторый источник эстетического отношения к понимаемому. Так, понимание может быть ясным или неясным, легко или трудно включающим данное содержание в необходимый для понимания контекст. Кроме того, так как этот контекст может быть или контекстом понимания сюжета вообще, или контекстом данной "сферы разговора", апперцепцией вообще и пониманием в собственном смысле, то между обоими может получиться своеобразный перебой. Последний или оживляет эстетическое восприятие, или мешает ему. Равным образом такой же эффект могут производить неопределенность и "перебой" смыслового ударения, возможной его приуроченности, с одной стороны, и нагромождения, наслоения смысла и его применений, с другой стороны.
До сих пор еще говорят о "нескольких" смыслах слова. Это - неточно. Смысл - один, но передача его может быть более или менее сложной. Средневековая библейская экзегетика возвела почти в канон различение четырех смыслов - в особенности со времени Бонавентуры и Фомы Аквинского. Такое четырехчленное различение встречается уже у Беды Достопочтенного; иные различали семь и больше "смыслов", иные меньше. Все это в основном восходит к иудейской экзегетике и эллинистической филологии8.
Поэтическое применение различия четырех смыслов (буквального, аллегорического, морального, анагогического) встречаем у Данте (Il Convito и сомнительное письмо к Конгранде). Единственный смысл и есть собственно "аллегорический", который сам Данте характеризует как "истинный". К нему мы приходим от образов и тропов "буквального". Получается как бы два "языка" данный и подразумеваемый, но смысл-то - один. "Моральный" смысл - вовсе не смысл, а "применение" и "поучение". "Анагогический" смысл, или сверхсмысл (sovra senso), - понимание изложенного в аспекте вечной или божественной истины - в действительности опять-таки есть лишь возможность перевода изложенного на новый еще "язык". Explicite это имеет место, например, во всяком метафизическом изложении, гипостазирующем явления и мысли и придающем гипостазируемым фикциям - несуществующим "действительностям" quasi-предметный смысл "второго", "истинного", "реального" и т.п. "мира". Строго говоря, введение анагогической интерпретации в поэзию уничтожало бы ее, поскольку оно требовало бы признания за поэтической фиктивной действительностью значения действительности сущей. Поэзия - не метафизика. Но поскольку сознание фикции поэтической сферы бытия не теряется, анагогический "перевод" изложения может приятно эстетически усложнить общее впечатление. Божественная Комедия - тому лучший пример.
Наконец, сюда же, к "мыслительной материи" слова, надо отнести и разного рода колебания в легкости-трудности понимания, вызываемые привычностью, банальностью, новизною, парадоксальностью и т.п. содержания и также усложняющие эстетический эффект поэтического изложения.
Над всем этим, как на фундаменте, возвышается эмоционально-эстетическая надстройка. Оформленность, которую она чувствует под собою, есть оформленность самого сюжета как такого, и ее связь с интеллектуальным фактором восприятия сюжета есть связь с чистым актом разумения, хотя и заключенным, имплицированным в необходимый при установлении "слова" тетический, resp. синтетический, акт предицирования. Пока тетический акт не совершен, пока содержание не "утверждено", колебания эстетического "настроения" не прекращаются. Его завершение не есть, однако, полное прекращение улавливающих смысл качаний разума или интеллигибельных интуиций. Это-то и говорит в пользу восприятия смысла как нового самостоятельного фактора эстетической организации сознания в интеллектуально-материальном членении структуры слова. Последний завершающий колебания и устанавливающий самый характер эстетического наслаждения момент есть подведение сюжета под чисто эстетическую категорию: величественного, героического, грациозного, комического, безобразного и пр<����оч.>.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: