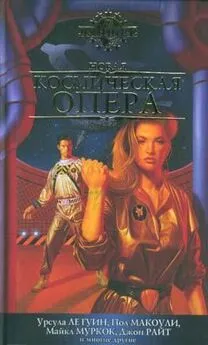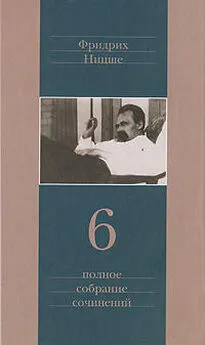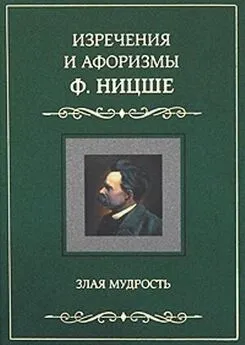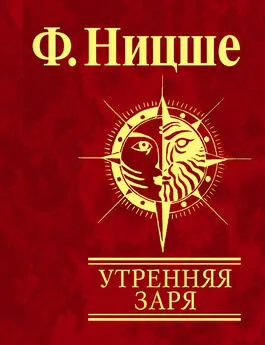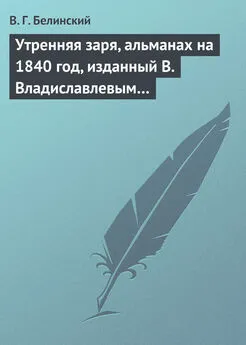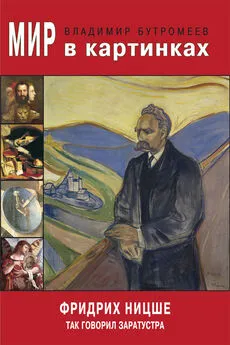Фридрих Ницше - Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках
- Название:Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Ницше - Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках краткое содержание
Утренняя заря, или мысль о моральных предрассудках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Красивее, но менее ценно.
— Художественная мораль: это мораль быстро вырывающихся аффектов, крутых переходов, патетических, сильных, страшных, торжественных движений и звуков. Это полудикая ступень морали: не позволяйте же ей соблазнить себя эстетическими чарами и не ставьте ее высоко.
Сочувствие.
— Для того, чтобы понять другого, т. е. для того, чтобы воспроизвести в себе его чувство, мы часто стараемся отыскать причину того или другого возникшего в нем чувства. Например, мы спрашиваем: чем он опечален? — Для того, чтобы представить себе ту же причину, и воспроизвести в себе то же чувство печали. Но чаще мы опускаем это, и воспроизводим в себе чувство по тем действиям, которые оказывает оно на другого, воспроизводя выражение его глаз, голоса, походки. Тогда в нас возникает подобное же чувство вследствие ассоциации движений и ощущений. В этой способности понимать чувства другого мы ушли очень далеко, и почти непроизвольно, в присутствии человека, мы упражняемся в этой способности. Всмотритесь только в игру черт женского лица, как оно все дрожит и изменяется от непереставаемого подражания и отражения того, что совершается, чувствуется и ощущается вокруг нее. Но яснее всего показывает музыка, какие великие мы мастера в быстром и тонком разгадывании чувств и в сочувствии: музыка есть воспроизведение чувств, и однако, несмотря на эту отдаленность и неопределенность, она заставляет нас участвовать в них, так что мы становимся печальными без малейшего повода к печали, как настоящие сумасшедшие, только потому, что слышим звуки и ритмы, которые как-нибудь напоминают голоса и движения печалящихся. Рассказывают о датском короле, что музыка какого-то певца так настроила его на воинственный лад, что он вскочил и тут же убил пятерых придворных: не было войны, не было врага, но сила, приводящая от чувства к причине, оказалась так сильна, что одолела и очевидность, и рассудок. Но именно почти всегда действие музыки таково, и чтобы понять это, нет надобности в таких парадоксальных случаях: состояние чувства, которое заставляет нас испытывать музыка, стоит почти всегда в противоречии с очевидностью нашего действительного положения, и с рассудком, который сознает это действительное положение и его причины.
Если спросить, почему воспроизведение в себе чувств другого для нас так легко, то в ответе не может быть никаких затруднений: человек, будучи самым трусливым из всех тварей, благодаря своей тонкой и хрупкой природе, имел учительницей того сочувствия, того быстрого понимания чувства другого (даже животного) — трусливость. В течение многих тысячелетий он видел в каждом незнакомом ему одушевленном предмете, опасность: при одном только взгляде на него он тотчас же воспроизводил в себе выражение черт его лица и его манеры, и по этим чертам и манерам он делал заключение о его злом или добром намерении. Это толкование намерений по движениям и линиям человек применил даже к неодушевленной природе, воображая ее одушевленной: я уверен, что те ощущения, которые мы испытываем при виде неба, леса, скалы, реки, моря, звезд, весны и т. п., имеют такое именно происхождение. Радость и приятное удивление, даже чувство смешного должно быть признаны позднейшими детьми сочувствия и младшими братьями страха. — Способность быстро пони мать — которая, таким образом, покоится на способности быстро становиться на место другого — уменьшается у гордых самостоятельных людей и народов, потому что они испытывают меньше страха; наоборот, все трусливее и забитые быстро все понимают и могут стать на место другого: здесь также надобно искать настоящую родину подражательных искусств и высшей интеллигенции. — Если после той теории сочувствия, которую я здесь изложил, вспомнить об излюбленной теории мистического процесса, в силу которого сострадание делает из двух существ одно и этим путем облегчает одному непосредственное понимание другого; если вспомнить, что такая светлая голова, как Шопенгауэр, находил удовольствие в такой сумасбродной, ничего не стоящей болтовне, и заразил этим другие светлые и полусветлые головы: я не могу достаточно надивиться им и достаточно сожалеть их. Как велика, должно быть, у нас страсть к непонятной бессмыслице! Как еще близко стоит человек к сумасшедшему, если он прислушивается к своим таинственным интеллектуальным желаниям! (За что, собственно, чувствовал себя Шопенгауэр так благодарным, так глубоко обязанным Канту? Загадка разъясняется очень просто. Кто-то сказал, что можно у категорического императива Канта отнять qualitas occulta, и он может сделаться понятным. На это Шопенгауэр разразился такой тирадой: “Понять категорический императив! Бессмыслица! Египетская тьма! Спаси Бог, чтобы он сделался понятным!..” Подумайте теперь, может ли иметь добрую волю к познанию моральных вещей тот, кто заведомо чувствует себя одушевленным верой в непонятность этих вещей, — тот, кто благоговейно верует в магию, духов, наития и метафизическое безобразие жаб!
Горе, если овладеет эта страсть!
— Если бы влечение привязанности и заботы о других (“симпатические аффекты”) сделались вдвое сильнее, чем они есть в действительности, то на земле нельзя было бы жить. Подумайте только, сколько глупостей ежедневно, ежечасно делает каждый из любви в себе и заботы о самом себе, и как невыносимо бывает тогда смотреть на него: а что было бы, если бы мы были для другого объектом этих глупостей и навязчивостей, которыми до сих пор он награждал только самого себя! Пришлось бы всякий раз, как подходил к нам “ближний”, бежать от него, закрывши глаза! И “симпатические аффекты” звучали бы тогда для нас так же зло, как звучит теперь “эгоизм”.
Затыкать уши перед плачем.
— Если мы позволяем плачу и страданию других смертных помрачать и покрывать облаками наше собственное небо, кто же должен нести последствия этого помрачения? Другие смертные в добавление ко всем своим собственным тягостям! Мы не можем ни помочь, ни утешить их, если мы сами служим эхом их плача или даже только прислушиваемся к нему, — разве только мы научимся искусству олимпийцев и будем наслаждаться несчастием человека вместо того, чтобы быть несчастным от этого. Но это слишком много для нас, — хотя мы сделали уже шаг к этому каннибальству богов.
“Неэгоистично”.
— Тот пуст, и хочет быть полным; этот переполнен, и хочет быть пустым. — Оба стремятся найти индивидуума, который служил бы им для этого. И этот процесс, в высшей степени понятный, называют в обоих случаях одним словом6 любовь. — Как? Ведь любовь есть нечто неэгоистичное!
Прочь ближнего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: