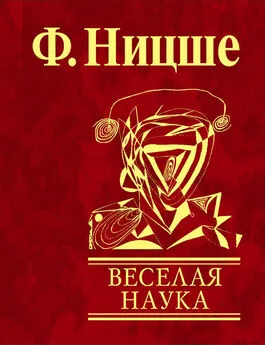Фридрих Ницше - Веселая наука (La Gaya Scienza)
- Название:Веселая наука (La Gaya Scienza)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Ницше - Веселая наука (La Gaya Scienza) краткое содержание
Веселая наука (La Gaya Scienza) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теперь и прежде.
К чему нам все наше искусство произведений искусства, если мы лишаемся того более высокого искусства — искусства празднеств! Прежде все произведения искусства выставлялись на большой праздничной улице человечества, как памятки и памятники высоких и блаженных моментов. Нынче же хотят произведениями искусства совлечь бедных, истощенных и больных с большой страждущей улицы человечества ради одного похотливого мгновеньица; им предлагают маленькое опьянение и безрассудство.
Свет и тени.
Книги и записи у различных мыслителей совершенно различны: один собрал в книге свет, который он наспех сумел похитить у лучей светящего ему познания и унести домой; другой передает только тени, серые и черные послеобразы того, что накануне встало в его душе.
Предостережение.
Альфьери, как известно, изрядно налгал, рассказывая удивленным современникам историю своей жизни. Он лгал из того деспотизма по отношению к самому себе, каковой он, к примеру, выказал, когда создавал собственный язык и тиранически вымучивал в себе поэта; в конце концов ему удалось найти строгую форму возвышенного, в которую он втиснул свою жизнь и свою память: должно быть, это стоило больших мучений. — Я нисколько не поверил бы и биографии Платона, им самим написанной; равным образом и Руссо или Дантовой vita nuova.
Проза и поэзия.
Однако вспомните, что великие мастера прозы почти всегда были и поэтами, публично или только украдкой и “взаперти”; и поистине, хорошую прозу пишут только перед лицом поэзии! Ибо проза есть непрерывная учтивая война с поэзией: вся ее прелесть состоит в том, что она постоянно избегает поэзии и противоречит ей; каждая абстракция хочет обернуться плутовством в отношении поэзии и как бы насмешливым тоном; каждая сухость и холодность рассчитана на то, чтобы повергнуть милую Богиню в милое отчаяние; часто случаются сближения. Мгновенные примирения и тотчас же внезапный отскок и хохот; часто подымается занавес и впускается резкий свет как раз в тот момент, когда Богиня наслаждается своими сумерками и матовыми цветами; часто срывают слово прямо с ее уст и распевают его на такой мотив, что она нежными руками придерживает нежные ушки, — и есть еще тысячи прочих удовольствий войны, включая поражения, о которых непоэтические, так называемые прозаичные люди и знать ничего не знают: на то они и говорят только дурной прозой! Война есть мать всех хороших вещей, война есть также мать хорошей прозы! — Это столетие насчитывает четырех весьма необычных и истинно поэтических писателей, достигших в прозе такого мастерства, для которого не созрело еще это столетие — из-за недостатка поэзии, как было указано. Отвлекаясь от Гете, к которому по справедливости апеллирует породившее его столетие, я вижу только Джакомо Леопарди, Проспера Мериме, Ралфа Уолдо Эмерсона и Уолтера Сэведжа Лендора, автора Imaginary conversations, как достойных называться мастерами прозы.
Так зачем же ты пишешь?
А: Я не принадлежу к тем, кто мыслит с непросохшим пером в руке, и еще менее к тем, кто полностью отдается страстям перед чернильницей, сидя на своем стуле и глазея на бумагу. Я злюсь или стыжусь всякого писания; писание для меня естественная потребность — мне противно говорить об этом даже в сравнениях. Б: Так зачем же ты тогда пишешь? А: Н-да, мой дорогой, между нами говоря, я до сих пор не нашел еще другого средства избавиться от своих мыслей. Б: А зачем хочешь ты избавиться от них? А: Зачем я хочу? Хочу ли я? Я должен. — Б: Довольно! Довольно!
Посмертный рост.
Та маленькая отважная речь о нравственных делах, которую Фонтенель набросал в своих бессмертных “Разговорах в царстве мертвецов”, считалось в его время собранием парадоксов и игрою неблагонадежного остроумия; даже высшие судьи вкуса и ума не принимали ее уже во внимание, — возможно, и сам Фонтенель. Теперь происходит нечто невероятное: эти мысли становятся истинами! Наука доказывает их! Игра принимает серьезный оборот! И мы читаем эти диалоги с иным ощущением, чем читали их Вольтер и Гельвеций, и невольно возводим их автора в иной и гораздо более высокий ранг умов, чем это делали его современники, — правы ли мы? неправы ли?
Шамфор.
Что как раз такой знаток людей и толпы, как Шамфор, спешил на выручку толпе, а не оставался в стороне в философском самоотречении и обороне, это я могу объяснить себе не иначе как следующим образом: инстинкт в нем был сильнее его мудрости и никогда не был удовлетворен, инстинкт ненависти ко всякому знатному происхождению: быть может, старая, слишком понятная ненависть его матери, священно заговорившая в нем из любви к матери, — инстинкт мести, затаившийся в нем с детских лет и ждущий удобного момента отомстить за мать. И теперь жизнь и гений его и, ах! всего сильнее отцовская кровь в его жилах — в течение многих, многих лет — соблазняли его примкнуть именно к этой знати и сравняться с нею! В конце концов, однако, ему стал невыносим его собственный вид, вид “старого человека” при старом режиме; пылкое, страстное покаяние охватило его, и в этом состоянии он облачился в плебейскую одежду, как своего рода власяницу! Упущенная месть обернулась ему нечистой совестью. Оставайся тогда Шамфор хоть на один градус больше философом, революция не получила бы своей трагической остроты и своего самого колючего жала: она выглядела бы гораздо более глупым событием и не оказалась бы таким соблазном умов. Но ненависть и месть Шамфора воспитали целое поколение: эту школу прошли и сиятельнейшие особы. Подумайте-ка над тем, что Мирабо смотрел на Шамфора как на свое высшее и старшее Я , от которого он ждал побуждений, предостережений и приговоров, терпеливо снося их, — Мирабо, принадлежащий, как человек, к совершенно иному рангу величия, чем даже первые среди государственных величин вчерашнего и сегодняшнего дня. — Странно, что, несмотря на такого друга и заступника — сохранились даже письма Мирабо к Шамфору, — этот остроумнейший из всех моралистов остался чужд французам, не иначе как и Стендаль, который, быть может, среди всех французов этого столетия обладал умнейшими глазами и ушами. Оттого ли, что последний, в сущнеости, заключал в себе слишком много немецкого и английского, чтобы быть еще сносным для парижан? — тогда как Шамфор, человек, богатый душевными глубинами и подоплеками, угрюмый, страдающий, пылкий, — мыслитель, считавший смех необходимым лекарством от жизни и полагавший едва ли не потерянным каждый деньт, когда он не смеялся, — выглядящий, скорее, итальянцем и кровником Данте и Леопарди, чем французом! Известны последние слова Шамфора: “Ah! Mon ami, — сказал он Сьейесу, — je m’en vais enfim de ce monde, ou il faut que le coeur se brise ou se bronze”. Это наверняка не слова умирающего француза!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: