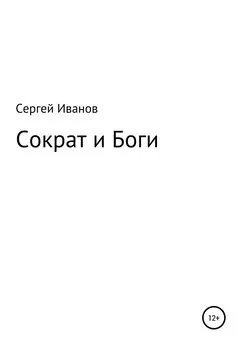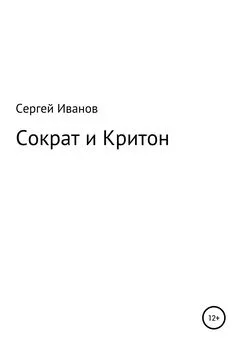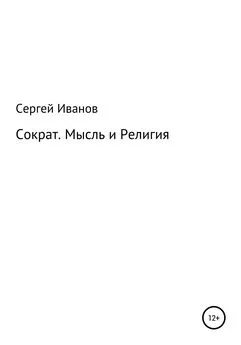Ф Кессиди - Сократ
- Название:Сократ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ф Кессиди - Сократ краткое содержание
Сократ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сообразно с этим излюбленным положением, повторяющимся в "Горгии" неоднократно (см. 473 а, 474 b и ел.), Сократ считает, что причиняющий несправедливость более несчастен, чем терпящий ее. Доказывается же это положение приравниванием несправедливости к безобразному (постыдному) деянию и показом того, что с объективной точки зрения из двух безобразных вещей - чинить несправедливость или терпеть ее - более безобразным (и большим злом) является первая (см. там же, 470 а - 475 с, 509 d).
Дальнейшее обсуждение вопроса приводит собеседника к выводу о том, что "никто не чинит несправедливости по доброй воле, но всякий поступающий несправедливо несправедлив поневоле" (там же, 509 е). В связи
226
с этим Сократ развивает мысль о том, что одного желания избегать несправедливости недостаточно, нужны, кроме того, "какая-то сила и искусство", обучение и практика (см. там же, 510 а), воспитание души и тела в арете (см. там же, 517 d). В конце диалога Сократ вновь подтверждает, что "чинить несправедливости опаснее, чем терпеть, и что не казаться хорошим должно человеку, но быть хорошим и в частных делах, и в общественных, и это главная в жизни забота" (там же, 527 Ь).
5. Критика Аристотелем этических парадоксов Сократа
Аристотель, постоянно критиковавший парадоксы Сократа и все его этическое учение, считал, что если следовать сократовскому тезису, то окажется, что человек не властен над собой и потому не несет ответственности за свои действия. В "Нико
маховой этике" мы читаем: "Изречение "Никто по воле не дурен и против воли не блажен", водном очевидно ложно, а в другом истинно. В самомделе, блаженным никто не бывает против воли, зато не-пороченность (есть нечто) произвольное. Иначе придется оспорить только что высказанные (положения), и (окажется), что нельзя признавать человека ни источником, ни "родителем" поступков в том смысле, в каком он родитель своих детей" (III, 7, 1113 в, 15). Далее Аристотель говорит, что справедливость отмеченного подтверждается как поступками отдельных лиц в сугубо частных делах, так и самими законодателями,
227
ибо они наказывают и преследуют поступающих дурно, за исключением тех случаев, когда эти действуют под влиянием насилия или по неведению, в чем они неповинны, в то время как они (законодатели) награждают почестями поступающих прекрасно для того, чтобы одних вознаградить, а других устрашить... И незнание наказуется в том случае, если окажется, что человек сам виновен в своем незнании, как, например, на пьяных налагается двойное наказание, так как принцип действия - в нем: ведь в его власти было не напиться, а пьянство и есть причина незнания. Точно так же они (законодатели) наказывают тех, кто не знает какого-либо закона, который следует и не трудно знать (см. там же, 1113 в, 20-30).
Предвидя, однако, возможное возражение, что никто не властен над своими "представлениями" и что субъективно всякий стремится к тому, что кажется ему благом, хотя на деле это может быть злом, Аристотель пишет: "Но если всякий в известном отношении виновник собственного характера, то он в известном отношении может быть назван и виновником своих представлений". В "Большой этике" Стагирит упрекает Сократа (если говорить в современных терминах) в примитивном детерминизме. По словам Аристотеля, Сократ утверждал, что не в наших силах быть достойными или недостойными людьми, поскольку, если бы пришлось спросить любого человека, хотел бы он быть справедливым или нет, ни один не выбрал бы несправедливость; то же самое было бы при выборе между мужеством и трусостью и другими добродетелями. Очевидно, следуя Сократу, необходимо признать, что люди порочны не по своей воле. Соответственно они не по своей воле и добродетельны.
228
Но если это так, заключает Аристотель, то нелепо призывать к добродетели, ибо, хороши ли мы или плохи, - это от нас не зависит (19, 1187 а, 5-15).
Таким образом, налицо полное расхождение между Сократом и Аристотелем по вопросу о значении воли, о возможности проявления слабоволия и невоздержанности в поступках человека. Аристотель обвиняет Сократа в игнорировании очевидных фактов. Так, общеизвестно, что человек, нередко ведая о лучшем, выбирает худшее; зная о дурных последствиях своего поступка, не удерживается от соблазна и страсти. Вследствие слабоволия он пробует, например, сладости, исходя из того, что "сладкое приятно", хотя и придерживается мнения, что ему следует избегать сладостей.
Кажется невероятным, чтобы Сократу с его жизненным опытом были неведомы такие явления, как невоздержанность и слабоволие, неизвестны случаи расхождения между знаниями и добродетельными поступками, а также конфликты между умом и сердцем. Ведь невоздержанность, слабоволие или, скажем, проявление человеком трусости - обыкновенные феномены, наблюдаемые в повседневной жизни. Да и по словам Ксенофонта, Сократ осуждал невоздержанность (см. Воспоминания, I, 5, 2) и восхвалял воздержанность, самообладание - egkratia (см. там же, I, 5, 4), т. е. как раз то, что является противоположностью akrasia или невоздержанности, которую он, Сократ, по словам Аристотеля, будто бы отрицал и считал невозможной.
В то же время трудно допустить, чтобы Аристотель, не поняв сути дела, исказил Сократа и приписал ему отрицание "очевидных фактов". Но если это так, т. е. если Сократ и Аристотель в одинаковой мере признавали "очевидные факты", то чем в таком случае объяснить
229
столь разительное их расхождение относительно этих фактов? По этому поводу исследователи высказывают разного рода предположения.
Так, представляется правдоподобным взгляд, согласно которому Сократ, не отрицая очевидных фактов, давал им собственное толкование и потому употреблял термин "знание" в необычном смысле; он тесно связывал знание с моралью и считал, что подлинное знание есть этическое знание; для него ни один человек, знающий, что такое добро, никогда не будет поступать дурно. Это означает, что критерий приложения термина "знание" у Сократа был более строгим, чем обычный критерий: никакое знание нельзя считать моральным (т. е. подлинным) знанием до тех пор, пока из него не будет с неизбежностью следовать хороший поступок.
Кажется, что все уладилось: Сократ употреблял слово "знание" в необычном смысле, Аристотель не апеллировал к обычному языку; первый не отрицал очевидных фактов, но давал им иное истолкование, второй признавал нововведение Сократа, но указывал на расхождение между сократовским и общепринятым пониманием знания. И Сократ и Аристотель, по-разному истолковывая термин "знание", расходились в употреблении слов, т. е. спорили о словах. Но при таком допущении возникает вопрос: почему Сократу необходимо было прибегать к необычному употреблению слов, а Аристотелю понадобилось говорить о лингвистическом значении терминов, если все их разногласия сводились к расхождениям терминологического порядка?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

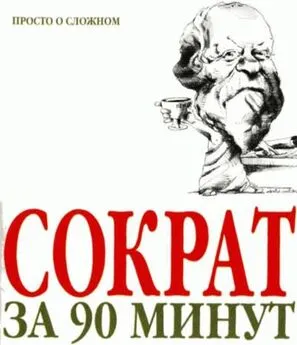
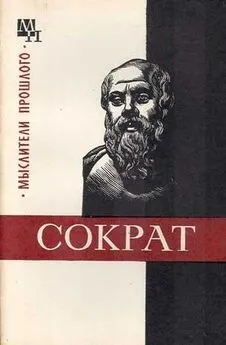
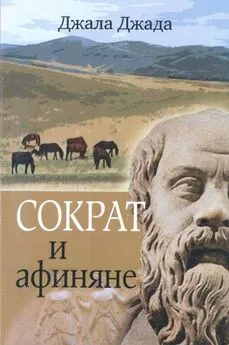
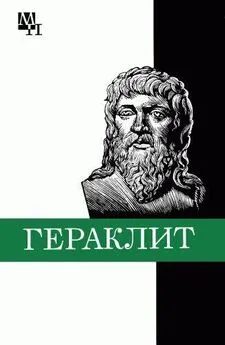
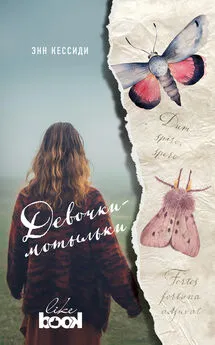
![Анне-Катрине Вестли - Аврора и Сократ [Повести]](/books/1097636/anne-katrine-vestli-avrora-i-sokrat-povesti.webp)