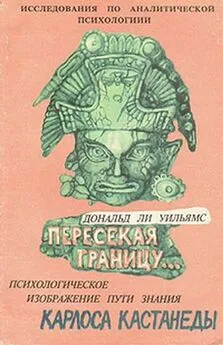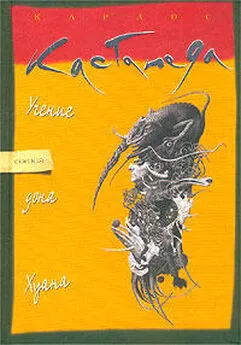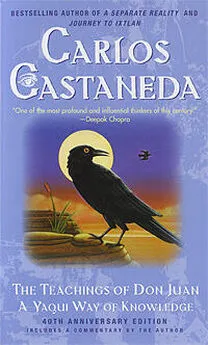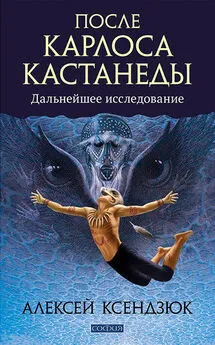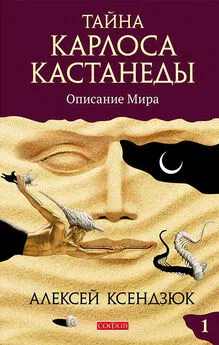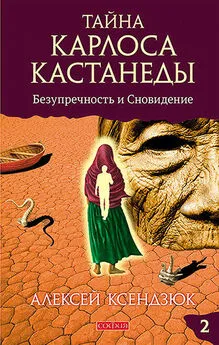Алексей Ксендзюк - Тайна Карлоса Кастанеды. Анализ магического знания дона Хуана: теория и практика
- Название:Тайна Карлоса Кастанеды. Анализ магического знания дона Хуана: теория и практика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство <Хаджибей>
- Год:1995
- Город:Одесса
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Ксендзюк - Тайна Карлоса Кастанеды. Анализ магического знания дона Хуана: теория и практика краткое содержание
Книга рассчитана на всех, интересующихся проблемами духовного развития и современным состоянием мировой оккультной мысли.
Тайна Карлоса Кастанеды. Анализ магического знания дона Хуана: теория и практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
"С точки зрения своей связи с намерением воин проходит через четыре ступени. Первая — это когда его связующее звено с намерением является ненадежным и ржавым. Вторая — это когда он преуспевает в его очищении. Третья — когда он учится манипулировать им. И наконец четвертая — когда он учится следовать предначертаниям абстрактного."
Шри Ауробиндо говорит о том, что мы должны стать "орудиями Божества". Это одно и то же, за исключением довольно существенного момента: употребляя понятие «Божество», мы склонны приписывать ему свои представления о том, какими путями оно движется, абстрактному же — ни в коей мере. Сам выбор слова в системе дона Хуана подчеркивает крайнюю степень удаленности от человека этой безличной силы.
В другом месте дон Хуан называет абстрактное духом и объясняет роль Нагваля, руководителя группы «магов», следующим образом:
"Я уже говорил тебе, что Нагваль является проводником духа, — продолжал он, — поскольку он на протяжении всей жизни безупречно устанавливает свое связующее звено с намерением, и, поскольку он обладает большей энергией, чем обычный человек, он может позволить духу проявляться через него." (VIII, 119)
Проводник духа — это звучит вполне благопристойно даже с точки зрения самых непреклонных блюстителей подлинней «духовности». Но в системе дона Хуана нас спасает от неминуемых заблуждений полное неведение насчет того, что есть дух и каким способом он осуществляет себя. Как ни парадоксально, сделать что-либо правильно мы можем лишь в том случае, если позабудем о правильном и неправильном, ибо в наших представлениях об этом слишком мало истины.
Оттого наши стремления к всеобщему добру так часто приводят к несчастьям и страданиям человечества. Как только мы убедили себя, что знаем путь к счастью, замысел Всевышнего в нашем исполнении оборачивается катастрофой. Это хорошо понимали еще древние даосы. Как пишет В. Малявин, исследователь творчества Чжуан-цзы: "исток насилия — в самом стремлении гипостазировать ценности, помыслить сущности, опредметить себя и мир. Зло, утверждали даосы, появляется в тот момент, когда начинают призывать делать добро ради добра… [Чжуан-цзы] гневно клеймит этих любителей красивых фраз о «гуманности», «справедливости», "культурных достижениях" и т. п., которые не замечают или не желают замечать, что общество, в котором они проповедуют, превращено с их помощью в толпу колодников, ожидающих лишь своей очереди положить голову на плаху."
Интересно, отдают ли себе отчет многие "учителя духовности", насколько их призывы способны привести к подобным последствиям? Дон Хуан, в отличие от сумасбродных пропагандистов массового духовного просветления, никого не зовет строить Царство Истины, от которого странно попахивает то ли фашизмом, то ли коммунизмом. Даже небольшие вмешательства в естественный ход вещей он отвергает, хотя и не читал мудрого Чжуан-цзы.
"Я поинтересовался, можно ли сделать что-нибудь, чтобы люди стали более гармонично относиться к светимости осознания.
— Нет, — ответил дон Хуан. — По крайней мере, видящие не могут сделать ничего. Цель видящих — свобода. Они стремятся стать ни к чему не привязанными созерцателями, неспособными выносить суждения. Иначе им пришлось бы взять на себя ответственность за открытие нового, более гармоничного цикла бытия. А этого не может сделать никто. Новый цикл, если ему суждено начаться, должен прийти сам по себе." (VII, 315)
Мы не возьмемся определить, можно ли считать такой подход к социальным проблемам человечества «духовным», но одно ясно наверняка: в учении дона Хуана нет призывов делать "добро ради добра", а значит, оно не посеет зла.
Конечно, книги Кастанеды зачастую воспринимаются, как увлекательные романы. Этому способствует и избранная автором форма дневника-автобиографии, и обилие невероятных, почти фантастических событий. Чего стоят одни лишь поразительные фокусы дона Хенаро, путешествия в "теле сновидения" загадочные явления мистических «союзников» или знаменитый прыжок в пропасть, в результате которого Кастанеда не только не разбивается, но посещает какие-то странные миры, чтобы в конце концов вернуться в нашу общую реальность на расстоянии сотен миль от места рокового прыжка! А телепортации, которые Карлос осуществляет с помощью дона Хуана? Или раздвоения Хенаро, одновременно мирно почивающего в своей далекой хижине на другом конце Мексики и демонстрирующего гипнотические трюки перепуганному антропологу? Нет слов, в такие события трудно поверить трезвомыслящему и «цивилизованному» читателю. "Думаю, эти книги представляют собой в основном плод фантазии," — утверждал в свое время Йезус Очоа, заведующий этнографическим отделом мексиканского Национального музея антропологии. А доктор Фрэнсис Снэпс из Северо-Западного университета США заявил: "Кастанеда — это новая игрушка. Я получил от его книг огромное удовольствие, такое же, как когда-то от "Путешествий Гулливера". Однако бывшие коллеги Кастанеды из Калифорнийского университета, которые присвоили своему выпускнику степень доктора наук за "Путешествие в Икстлан", негодуют, когда слышат подобные высказывания. Один из профессоров этого заведения назвал Кастанеду "гением, которому удалось поколебать привычные ценности и предрассудки". Среди тех, кто не сомневается в достоверности книг Кастанеды, — Майкл Мэрфи, основатель известного института по изучению проблем развития человека, крупные ученые и исследователи, такие, как Аллан Уоттс и многие другие.
И как это всегда бывает, если речь заходит о мире на границе интеллектуальной познаваемости, а то и вовсе за ее пределами, здесь возможны две принципиально полярные точки зрения: реализм и идеализм. Вопреки устоявшемуся мнению именно философский идеализм оказывается в нашем случае непримиримо консервативным, а реализм (не ортодоксальный материализм!) способен принять в качестве материала исследования феномены, явно не укладывающиеся в традиционное описание мира. Следуя гносеологической установке реализма (т. е. предмет познания реален и независим от сознания и познавательных актов), мы открываемся бесконечному числу углов зрения на реальность, неизбежно полагая ее неисчерпаемой и непредсказуемой для познающего разума. Опыт мыслительной машины человека здесь не критерий и не опора, а лишь некое освоенное изнутри пространство, в определенной части своей субъективное, в другой же — объективное, но никто не дал нам бесспорной меры для начертания границ между ними. Философский идеализм в строгом понимании гегельянца не терпит объявившейся пропасти между субъектом и источником переживания бытия — для него мир имеет смысл только как чрезмерная объективация Логоса, а сам переживающий
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: