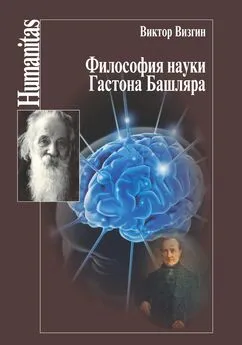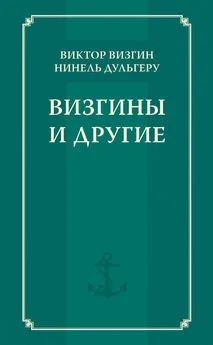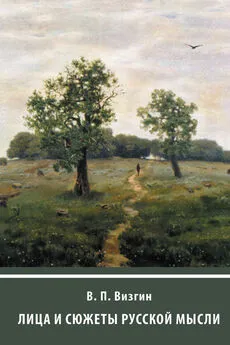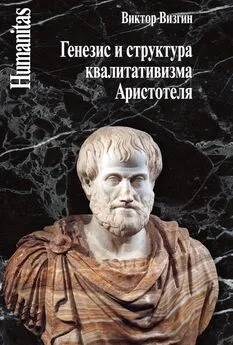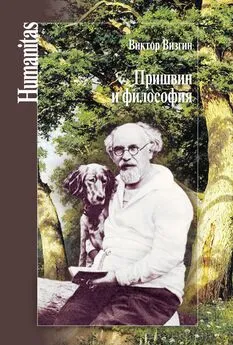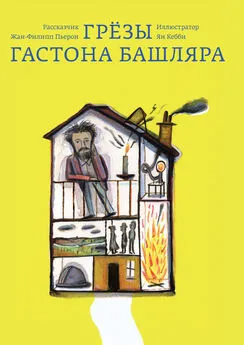Виктор Визгин - Философия науки Гастона Башляра
- Название:Философия науки Гастона Башляра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-140-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Визгин - Философия науки Гастона Башляра краткое содержание
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Философия науки Гастона Башляра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У этого мыслителя, напрочь забывшего, казалось бы, все метафизические, религиозные, онтологические, космологические и этические проблемы, была самая настоящая вера в Науку и Разум. «В нем чувствовался апостол, отец Церкви, апологет, проповедник. Он заставляет меня вспомнить св. Бернара с его проповедями по поводу библейской “Песни песней”, но его, Башляра, “Песней” была Наука и этой наукой он восхищался, и когда ее критиковали, его главной темой была ее защита, и он ее тогда защищал, говоря, что ее не понимают» [108, с. 14].
Как эпистемолог Башляр уже имел в виду Целое, относился к Целому, отождествляя его с Наукой. Разум и наука кажутся нам всегда не-целыми и не-цельными, конечными потому, что мы их привычно связываем с границами и пределами, с постулатами и исключениями. Но для Башляра научный разум был живым, динамическим, самотранцендирующим началом, т. е. открытым целым в сфере мысли, труда, истории, то есть того, что лучше всего назвать, пожалуй, цивилизацией (в западном новоевропейском смысле). Открытое Целое, незавершенное Целое (т. е. несовершенное Целое) – не противоречиво ли само это понятие? Да, Башляр в нем подходит к тому, чтобы вместо Бытия мыслить возможность и становление, вместо Единого – множественное, вместо Целого – фракционный, многоликий, региональный разум. Но как бы ни дробился образ Целого, мы тем не менее не можем не признать, что исходным началом все же было Целое.
Возвращаясь к метафоре дня и ночи, мы не можем не видеть, что день имеет перед ночью то преимущество, что он может обсуждать и понимать не только себя, но и ночь. Ведь именно разум объясняет грёзы и распутывает хаос воображения. Именно разум толкует ночные сновидения и символы традиции. Башляр был воинствующим, непримиримым рационалистом, и это означает, что он был столь же жестким антитрадиционалистом. В плане культурологических предрасположенностей творческой личности эта характеристика Башляра-мыслителя представляется нам определяющей.
Башляр как личность и как интеллектуал был воспитан в ценностях республиканизма, демократии, в ценностях новой Франции. Его интерес к науке и поэзии не шел далеко вглубь истории. В противоположность многим своим современникам-философам, окончившим Высшую нормальную школу и получившим классическое философское образование, он был выходцем из провинции и хотя, сдавая агрегационный экзамен, показал знания латыни и греческого, но никогда ни Вергилий, ни трагики, ни греческие философы не были предметом его размышлений. Его эпоха начинается с Революции, с XIX века, науку и поэзию которого он знал превосходно, включая науку и поэзию XX века. Революция сделала культом Разум – и Башляр со всей страстностью натуры этот культ исповедовал, подчеркивая, что высшим началом для человека является не воля к власти, а воля к разуму: «Убеждать людей правотой вещей (avoir raison des hommes par les choses) – вот в чем высший успех или триумф, он не в воле к власти, а в воле к разуму (Wille zur Vernunft)» [55, с. 247].
Рационалист (вплоть до «сюррационализма»), прогрессист, модернист – все это – Башляр. И даже материалист! Пусть его материализм – это материализм рациональный, конструктивный, технический, даже «трансцендентальный» [70]. Да, такой материализм, как справедливо отмечает Пуарье [108, с. 23], отличается и от материализма Дидро и от материализма Геккеля и, наконец, от диалектического материализма, что отмечали, и не без сожаления, некоторые марксисты. В нем нет, увы, привычной для многих из них идеологической верности раз принятой догме. Его душа восхищается не принципом «объективной реальности, данной нам в ощущении», а феноменом науки, перешагивающей через саму себя, созидающей новый мир, опережающей реальность как данность, конструирующей новую действительность.
Итак, все равно материалист, хотя и в высшей степени рационалистический и активистский. Более того, в его творчестве мы не находим и проблемы Бога. Значит, возможно, и скорее всего еще и атеист… Да, Башляр сполна принадлежит той Франции, той части французской культуры, которую обозначают как республиканская. Для этой культуры характерны три ценностных «кита» (как в России «самодержавие, православие, народность»): наука, школа, общество. Башляр оставался верен этой «трилогии» светских и республиканских ценностей всю свою долгую жизнь провинциала-автодидакта на профессорской кафедре в Сорбонне [105, с. 111]. Ценности научной культуры, ценности просвещения, обучения (Школы) и, наконец, ценности гражданские и общественные – вот «арматура» этой личности, ее глубинные основы. Как культура соседней с Францией Испании делится на культуру Испании «черной» (Espan6a negra) и Испании «красной» (Espan6a roja), подобным же образом и культура Франции в первом приближении биполярна. И Башляр в ней явно и однозначно занимает левый – республиканский, светский, рационалистический и материалистический – полюс, которому противостоит Франция монархическая, традиционалистская, католическая, спиритуалистическая. С одной стороны, Франция Жозефа де Местра, с другой – Огюста Конта. И, несмотря на свою критику Конта (впрочем, к нему он относился всегда с большим уважением), Башляр во многом был его последователем. Да, он не был позитивистом и немало сделал для его преодоления в философии и истории науки. Но в своем рационализме, в своем педагогизме, в своем культе разума – открытого, активного, всемогущего – он оставался рядом с Контом, вместе с ним присоединяясь к традиции ученых и философов Франции, которым были близки ценности Школы и Науки (Л. Брюнсвик, А. Рей и др.).
Философия науки Башляра – докризисная. Я хочу сказать, что она создавалась в атмосфере увлечения наукой, ее захватывающими дух успехами. Проблемы кризиса науки и всей техногенной цивилизации у Башляра мы не найдем. Нет и других модных сегодня тем, связанных с наукой и осмыслением ее образа в обществе. Попытка счесть его предшественником методологического анархизма в духе П. Фейерабенда, на наш взгляд, натяжка [21, с. 9]. Однако основной пафос Башляра – пафос поисков новой рациональности, стоящей на уровне задач сегодняшнего и завтрашнего дня – нам близок как никогда. Нас не может не привлекать верность Башляра ценностям рационализма и науки. Да, многие из нас сегодня совсем иначе смотрят на традиционные ценности. Да, и на самом деле чисто модернистская антитрадиционалистская установка, видимо, исчерпала себя. Футуристическое богоборчество – тоже. Безоглядная и слепая вера в Прогресс – тоже. Мы понимаем сегодня, что основная трудность современного человека это – не столько покорение неизвестного в рациональных формах науки и техники, сколько реассимиляция прошлой культуры, исторических традиций, т. е, освоение и «приручение» старого известного. Башляр же, действительно, весь устремлен к рациональному покорению «нового неизвестного» (un nouvel l’inconnu) [61, с. 28].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: