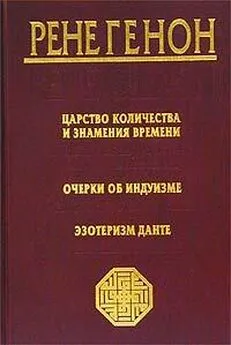Рене Генон - Человек и его осуществление согласно Веданте
- Название:Человек и его осуществление согласно Веданте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Беловодье
- Год:2004
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рене Генон - Человек и его осуществление согласно Веданте краткое содержание
Вниманию читателя предлагается издание, включающее две работы выдающегося французского мыслителя, знатока восточных культур, эзотерических и мистических учений Рене Генона (1886–1951), впервые вышедшие в свет в 1925 году: "Человек и его осуществление согласно Веданте" и "Восточная метафизика".
Ценность работ Генона заключается в широте освещения тем и духовных традиций. Он старается не столько противопоставить различные духовные учения и школы, сколько найти общее основание, объединяющее Веды и Библию, Упанишады и античную мудрость, санкхью и даосизм.
Читатель, интересующийся древними культурами и сокровенными знаниями, получит истинное наслаждение от строгих интеллектуально-духовных размышлений "каирского отшельника", позволяющих приблизиться к истине в том виде, в каком ее понимали посвященные адепты Востока и Запада.
Человек и его осуществление согласно Веданте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава III. ЖИЗНЕННЫЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА; МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ БРАХМЫ
«Сверх-Я», как мы видели в вышесказанном, не следует отличать от Атмана, а с другой стороны, Атман отождествляется с самим Брахмой: это то, что мы можем называть «Высшим Тождеством», пользуясь выражением, позаимствованным из исламского эзотеризма, доктрина которого в этом вопросе, как и во многих других, несмотря на большие различия по форме, по сути является той же самой, что и доктрина индуистской традиции. Это тождество реализуется посредством йоги, т. е. сокровенного и сущностного соединения данного существа с Божественным Первоначалом (Принципом), или, если угодно, с Универсальным. И в самом деле, в собственном смысле слово «йога» означает «союз» («соединение»), и более ничего, [17] Корень этого слова обнаруживается, в слегка видоизмененном виде, в латинском jungere и его производных.
вопреки многочисленным интерпретациям — одна фантастичнее другой, — предлагаемым ориенталистами и теософами. Нужно заметить, что такая реализация не должна рассматриваться как «достижение», или «получение ранее не существовавшего результата», согласно выражению Шанкарачарьи, потому что соединение, о котором идет речь, даже не реализованное актуально в том смысле, который мы подразумеваем здесь, тем не менее существует потенциально, или скорее виртуально. Для индивидуального существа (ибо только применительно к последнему можно говорить о «реализации») речь, стала быть, идет лишь о том, чтобы действительно осознать то, что реально есть и пребывает в вечности.
Вот почему говорится, что это именно Брахма пребывает в жизненном центре человеческого существа, и это так для каждого человеческого существа, каково бы оно ни было, а не только для того, кто актуально «соединен», или «освобожден»; подразумевается, что эти два слова, в конечном счете суть одно и то же, рассматриваемое в двух различных аспектах: в первом случае — по отношению к Принципу, во втором — по отношению к проявленности, или обусловленному существованию. Этот жизненный центр рассматривается как аналогически соответствующий самому малому желудочку (гуха — guha) сердца (хридайа — hridaya), однако не должен смешиваться с сердцем в обычном смысле этого слова, т. е., хотим мы сказать, с физиологическим органом, носящим это имя, потому что в действительности он является центром не только телесной индивидуальности, но индивидуальности интегральной, которая способна к бесконечному расширению в своей области (последняя, однако, есть всего лишь одна ступень Существования) и телесная модальность которой есть всего лишь часть, и притом, как мы уже говорили, часть очень ограниченная. Сердце рассматривается как центр жизни, и оно и в самом деле является таковым, с физиологической точки зрения и по отношению к циркуляции крови, с которой жизненность связана совершенно особым образом, как это согласно признают все традиции; но оно, кроме того, таковым же считается и на высшем уровне и, некоторым образом, символически — по отношению к универсальному Уму (в смысле арабского термина Эль-Аклу — El-Aqlu), в его отношениях с индивидом. В этой связи следует заметить, что сами греки, в том числе и Аристотель, приписывали сердцу ту же роль, что они также считали его местопребыванием ума, если можно так выразиться, а не чувства, как это обычно полагают современные люди. Мозг же в действительности есть лишь инструмент «ментальности», т. е. рассудочной и дискурсивной мысли; и, таким образом, согласно символике, которую мы уже описали ранее, сердце соответствует солнцу, а мозг — луне. Однако когда сердце обозначают как центр интегральной индивидуальности, следует очень остерегаться того, чтобы аналогию не стали рассматривать как уподобление; следует помнить, что здесь есть лишь соответствие, впрочем, вовсе не произвольное, но вполне обоснованное, хотя наши современники, в силу приобретенных ими привычек, несомненно, не смогут разглядеть глубоких причин этого.
«В этом местопребывании Брахмы (Брахма-пура — Brahma-pura); т. е. в жизненном центре, о котором мы только что говорили, «находится маленький лотос, жилище, в котором есть малая полость (дахара — dahara), занятая Эфиром — Акашей (Akasha): нужно найти То, что пребывает в этом месте, и тогда познают Его». [18] Чхандогья-Упанишада, 8 Прапатхака, 1 Кханда, шрути 1.
В действительности то, что пребывает в этом центре индивидуальности, это не только эфирный элемент, первоначало (принцип) остальных четырех чувственно осязаемых элементов, как могли бы подумать те, кто останавливается на самом внешнем смысле, т. е. на том, что соотносится единственно с телесным миром, в котором этот элемент действительно играет роль принципа, но в значении очень относительном, поскольку сам этот мир в высшей степени относителен; и вот это именно значение теперь предстоит транспонировать по аналогии. И лишь в качестве «опоры» для такого транспонирования здесь обозначен эфир, а сам конец текста подчеркнуто указывает на это, ибо если бы на самом деле речь не шла о другом, то, очевидно, нечего было бы и отыскивать. Добавим еще, что лотос и полость о которых идет речь, должны также рассматриваться символически, потому что вовсе не буквально следует понимать такую «локализацию» — поскольку, как только мы покидаем точку зрения телесной индивидуальности, все остальные модальности перестают подчиняться условиям пространства.
На самом же деле то, о чем действительно идет речь, это даже не только «живая душа» (дживатма — jivatma), т. е. частное проявление «Сверх-Я» в жизни (джива — jiva), а стало быть, в человеческом индивиде, рассматриваемое более конкретно в витальном аспекте, который выражает одно из условий существования, определяющее само это состояние, и который, кстати сказать, приложим ко всей совокупности его модальностей. В самом деле, с метафизической точки зрения, эта манифестация не должна рассматриваться в отрыве от ее принципа, каковым является «Сверх-Я»; и если последнее проявляется как джива в области индивидуального существования, т. е. в иллюзорной модальности, то в высшей реальности оно является Атманом. «Этот Атман в моем сердце меньше, чем зернышко риса, чем зерно ячменя, чем горчичное семя, чем семя проса, чем ядро семени проса; этот Атман в моем сердце больше, чем земля (область грубой проявленности), больше, чем воздушное пространство (область тонкой проявленности), больше, чем небо (область неоформленной проявленности), больше, чем все эти миры вместе (т. е. за пределами всякой проявленности, будучи безусловным». [19] Чхандогья-Упанишада, 3:14, 3. [Цит. по: Древнеиндийская философия. — М., 1971, стр. 90–91. — Прим. перев. ] Невозможно не вспомнить здесь вот эту евангельскую притчу: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Мтф., 13: 31; Мрк., 4, 30–32; Лк., 13, 18–19. Хотя точка зрения определенно иная, легко понять, что концепция «Царства Небесного» может быть переложена метафизически: рост дерева есть развитие возможностей; и вплоть до «птиц небесных», олицетворяющих тогда высшие состояния существа, это напоминает нам сходную символику из другого текста Упанишад: «Две птицы, неразлучные навек, спустились на одно и то же дерево. Одна из них ест сладкие плоды, другая смотрит, ничего не вкушая. (Мундака-Упанишада, 3 Мундака, 1-я Кханда, шрути 1; Шветашвара-Упанишада, 4 Адхьйя, шрути 6). Первая из этих птиц есть дживатма, которая вовлечена в область действий и его следствий; вторая — безусловный Атман, который есть чистое Знание, и если они неразлучны, то это потому, что они отличны друг от друга лишь в иллюзорном мире.
Интервал:
Закладка: