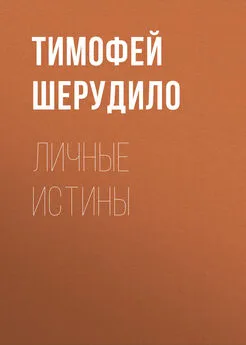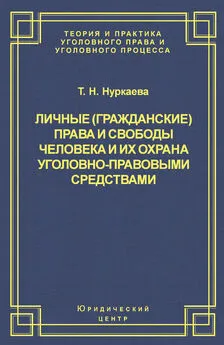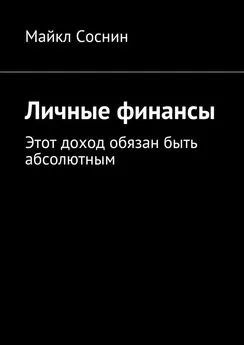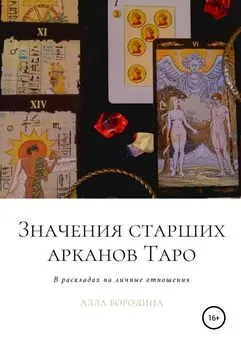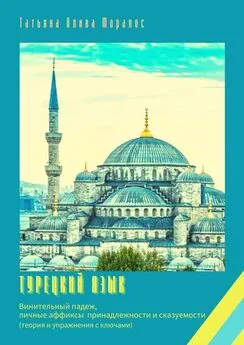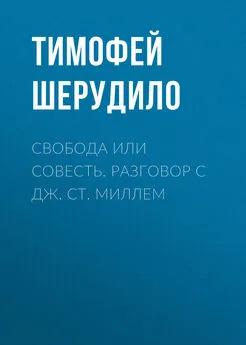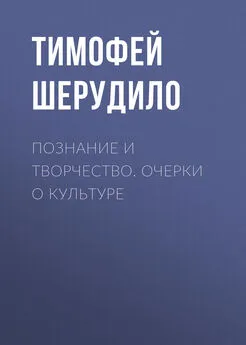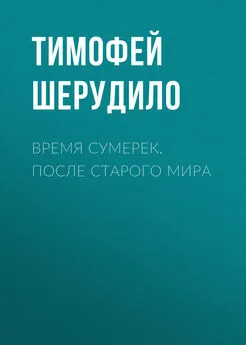Тимофей Шерудило - Личные истины
- Название:Личные истины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тимофей Шерудило - Личные истины краткое содержание
Личные истины - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
***
Говорить – малоценное искусство, прекрасное только тем, что знакомит нас с искусством жить и испытывать счастье. Подозревает ли писатель, выходя на свою дорогу, что достигнет однажды состояния, когда хорошее о себе перестаёт радовать, а в плохое не верится, потому что знаешь о себе гораздо больше хорошего и дурного, чем кто-либо посторонний? Вес одобрения, вообще ценность стороннего мнения страшно преувеличивается людьми, которые берутся судить об этом вопросе. «Вы написали хорошую книгу», говорят писателю. Но он знал об этом в те самые минуты, когда писал ее; что он может услышать нового? «Неотвратимые внутренние вопросы», о которых говорил Гоголь, не отменяются ничьим одобрением. Есть, однако, еще счастье признания; но тому, кто давно уже признал себя , оно бесполезно. Тому, кто занят бесконечным разговором со своей душой, все остальные разговоры кажутся ничтожными.
***
– Что есть философия?
– Философия – область невозможного и неповторимого, того, что случается однажды и воспроизведению не поддается. Происхождение мира и жизнь духа подлежат только философскому изучению; в них нет пищи для науки. Ни гений, ни мироздание не поддаются научному исследованию, т. к. там, где нет повторения, науке не к чему приложить свои орудия, ее область – область повторения и опыта. «Научная философия», в которой потеряны лучшие черты как философии, так и науки, может стать только некоторым заменителем религии, то есть сводом догматов, существующих исключительно ради поддержания собственного существования; в ней возможны догматические споры, но не поиск истины.
***
Входящим в мир высших духовных ценностей следует говорить: «Остерегайтесь подделок!» Все высшие ценности поддаются подмене и замещению; даже так: в каждой следующей ступени духовного роста скрыта возможность падения и возврата. Патриотизм вырождается в поклонение государственной мощи; религия становится исканием чуда; наука ради власти над природой отказывается от ее познания. Все эти виды порчи высших ценностей сводятся к подмене качественного превосходства количественным. Мощь, чудо и власть – разные имена одного и того же кумира. Главная борьба в области духа идет именно с этим кумиром; христианам он известен под именем дьявола.
***
Мыслитель – человек, который ходит над пропастью и рассказывает о том, что он увидел. Положение его восхитительно и опасно. За дальность взгляда он платит постоянным страхом падения. Если некто находит свои мысли в безопасных и общедоступных местах, он не мыслитель, но в лучшем случае ученик.
***
В мире безусловной веры возможна осанна, но не философия. Философия предполагает испытание мира мыслью; некоторое изначальное сомнение. Перед лицом Бога не философствуют, но верят, надеются и живут. Философия, как и псалмы Давида, есть плод некоторого затруднения; разрыва между фактами и их пониманием; философия, как отмечал Лев Шестов, посетила Иова не тогда, когда он узнал о своих первых бедах, но когда он был уже раздавлен непосредственным, личным несчастьем, отделившим его от человечества. Мыслитель непременно отделён ; он не понял чего-то, и потому уединился, или уединился потому, что его не удовлетворило общераспространенное понимание. Так или иначе, но он уединился и из своего уединения судит и пересуживает вещи, к которым с некоторых пор пошатнулось его доверие, и для этого доверия он теперь ищет новое основание. Философ, однако, – тот, кто именно усомнился , а не отчаялся. Сомнение имеет тот же смысл, что и шаг, то есть перенос тяжести тела с одной точки опоры на другую. Сомневаются не только в чем-то , но непременно ради чего-то . На умственное развитие можно смотреть и как на последовательность сменяющих друг друга сомнений, разрываемых временами твердого убеждения. Если твердые мнения суть точки на прямой познания, то сомнения – соединяющие их отрезки. Взгляд на развитие как на череду сомнений избавляет от обожествления частных истин, преходящих твердых мнений; что толку в поклонении той или иной точке зрения, если она только ступень к следующему сомнению? – Так сказал бы парадоксалист, каким в определенной степени и должен быть мыслитель.
***
Приветствуется ум, «докапывающийся до самого корня вещей», но только в той степени, в какой он поверхностен. Такой ум бодро разрешает мировые вопросы – и принимает поздравления; он не знает, какие чудовища живут там, где корни вещей, и как изранены будут совесть и ум познающего, который осмелится спуститься к этим корням. По закону, указанному Христом, ищущий находит. Тот, кто ищет «простых и понятных истин», также их обретает; но к познанию сути вещей, настоятельно требующему самоотдачи и самосжигания, не приближается. Мыслить о корнях вещей значит не жалеть себя и своего спокойствия; чем дальше мы находимся от спокойствия, тем больше приближаемся к корням вещей.
***
Культура – произведения праздного, т. е. поднявшегося над заботами, человеческого ума, в которых он осознаёт свою связь с прошлым, и которые он оставляет для будущего. Всё создается для того, чтобы стать чьим-то прошлым; культура, как ни странно, есть создание великого прошлого ; иначе дело обстоит только в стране без истории, где нет «вчера», но только вечное «сегодня», или же при конце времен. Культура длится, или ее нет; ее отличает от варварства именно протяженность.
***
Мудрость – умение по частям угадывать целое, по следам восстанавливать пробежавшую истину, коротко говоря – искусство познавать целое по его части. Там, где целое уже дано, нет места угадыванию, следовательно, и мудрости, там будет хорош и простец. В мудрости человек нуждается, пока у него закрыты глаза; она ни к чему тем, кто видит ясно. К счастью для мудрецов, слишком многое в мире скрыто от взора, а потому поддается только угадыванию; даже написанное слово не столько сообщает, сколько скрывает мысли, и тем дает почву филологии, как «искусству медленного чтения» (Ницше).
***
Как делаются философами? Однажды душа начинает спрашивать, и счастливы те, с кем этого не случилось: они смогут прожить жизнь в безверии или вере, и в любом случае будут счастливы, но душа, которая научилась задавать вопросы, уже не будет спокойна. Однако философия – нечто большее, чем умение во всем сомневаться, в котором обычно видят признак сильного ума. Положительные суждения вызывают мысль о слабости судящего: по-настоящему легкий успех дается только отрицанием, и как можно более громким. Правда меньше занимает общество, чем новизна, поэтому ниспровергатели всегда имеют успех. Усомнившись, человек как бы поднимается над подвергнутой сомнению ценностью; этим и живет искуситель: он поднимает мнение человека о себе самом, поощряя его к суждениям о превосходящих его истинах. Смысл сего искушения в том, что истина и человек меняются местами: истина оказывается снизу, а человек – в новом качестве судьи и оценщика – сверху. Бестрепетно он осуждает старые истины и устанавливает новые, забывая о том, что право называться истиной всякое мнение приобретает только пройдя через страдания. Свежеиспеченные истины, полученные путем всеохватывающего сомнения, не имеют этого свойства: они не испытаны и не оправданны ничем, кроме прихоти судящего. Сомневаться, т. е. философствовать, необходимо, но за достигнутые путем сомнения истины нужно еще и страдать, иначе они пополнят только собрание человеческих заблуждений. Чувство общей осмысленности , которое нас иногда посещает, достаточно сильно для того, чтобы вызвать веру, но недостаточно ясно, чтобы дать ответ на все вопросы души. И этим путем также приходит на свет философия: когда есть достаточно острый слух, чтобы слышать слаженный хор мировых голосов, но недостаточно зрения, чтобы увидеть их источник. Корни философии в сумерках, до рассвета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: