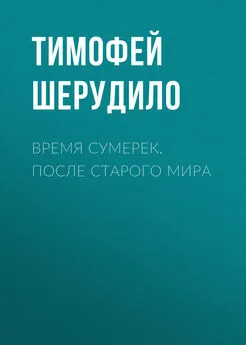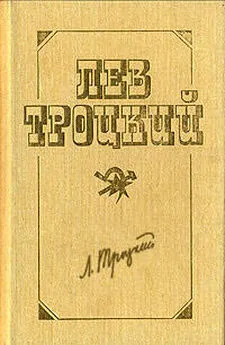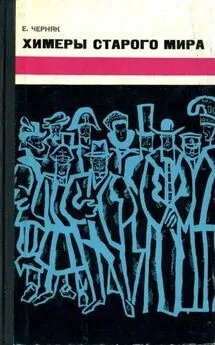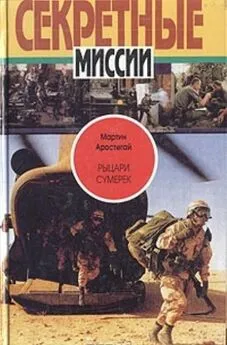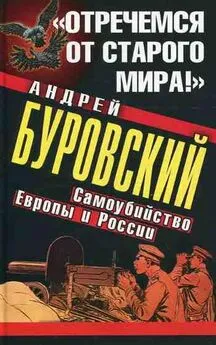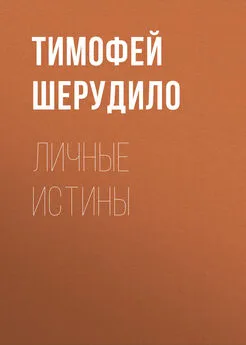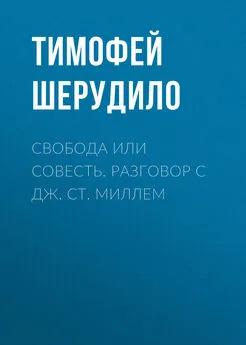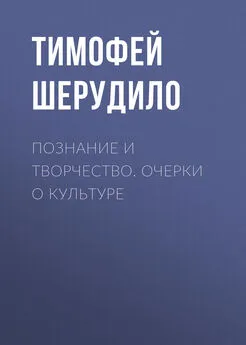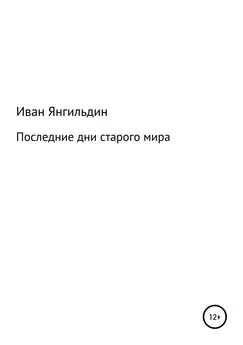Тимофей Шерудило - Время сумерек. После Старого мира
- Название:Время сумерек. После Старого мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тимофей Шерудило - Время сумерек. После Старого мира краткое содержание
Время сумерек. После Старого мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Идеолог говорит о «правильном», т. е. должном понимании вещей, философ – о «ясном и логически-непротиворечивом, и притом осмысленном» (т. е. не допускающем сомнения в осмысленности мира). Идеология – личная праведность, примененная к мнениям: «думай так, и будешь долговечен на земле». Логическая ценность мировоззрения ее не занимает.
И в то же время идеология напоминает христианскую мораль. Она так же ставит человека в невыносимые отношения с самим собой. Требования идеологии, как и требования христианства, не могут не быть нарушены. Мысли, дела и ощущения делятся на правильные , для других – и настоящие , для себя. «Идеология» во всех видах предполагает двоемыслие.
Сходство «идеологии» с христианской моралью неслучайно. Она решает те же задачи, давая личности, в награду за «правильное» поведение, чувство собственной ценности. Отличие в том, что идеология, понимаемая как система нравственности, переопределяет «грех» (запретное) через внешнее, а не внутреннее. На место вреда, причиняемого душе, ставится вред, причиняемый обществу. Постыдно – не «думать одно и говорить другое», а «сказать то, что думают все». Благо общества (понимаемое как его безмятежный сон) становится последней ценностью. Личная праведность достигается через служение внешним и только внешним целям. По счастью, в России эта светская мораль не просуществовала долго, но успела опустошить умы двух-трех поколений и привести к полной нравственной потерянности их потомков…
После длительного господства идеологии – мы оказались на пустой земле. Что же нам делать?
Возвращение к религиозной морали, основанной на подавлении желаний, выглядит не просто маловероятным – неплодотворным. Старый мир был и высокоразвит, и богат, но потому, что принимал мораль запретов лишь до известного предела (то есть не был вполне христианским, на что без конца обращали внимание строгие проповедники). Плотина, поставленная человеческому желанию жить в мире и радоваться солнцу, уже прорвана, и если и будет восстановлена, то под знаком другой религии. Думаю, мы больше не имеем права отступать из мира – в душу , оставляя мир в забросе, как это было когда-то сделано, но и забросить душу ради мира не можем. Нынешнее же ученое безмыслие (уроки пользования бессмысленным миром) никого на долгие сроки удовлетворить не сумеет.
Что же касается мудрости, наполняющей мир смыслом даже тогда, когда голоса старых богов не слышны… Жить в осмысленном мире, строго говоря, труднее. Осмысленность вещей – бремя, слабый ум его охотно сбрасывает. Полезно же то, что делает жизнь проще. Почему, кстати, бесполезна культура – набор усложняющих жизнь правил, образцов поведения, чувства и мысли. И почему мы должны, не опуская рук, держаться за культуру и память о ее достижениях – сколько бы ни твердили нам о «пользе» и «прогрессе».
Чтобы не повторять постоянно смутное слово «культура», проще сказать: «духовный труд». (И пусть не обманывает нас сходство с христианским словоупотреблением.) Речь о труде ума и чувства, направленном на усложнение, углубление личности и способов ее выражения. Ведь общество (как бы ни хотелось некоторым поверить в обратное) есть, кроме прочего, воспитательное учреждение. Никакого «естественного состояния» человека нет, если не считать состояния дикости. Всякий высший человеческий тип выпестован обществом, его представлениями о культуре, то есть (в последнем итоге) о воспитании.
В том и важность вопроса. Отношение души к миру, смыслы, которые она вкладывает в дела и вещи – всё это касается не праздных отвлеченностей, но самого главного: воспитания человека. Что бы мы ни выбрали: праведность через соблюдение запретов; «пользование» бессмысленным миром; «правильные названия вещей» при безразличии к внутренней жизни души; философскую веру в осмысленность миропорядка – выбранные смыслы определят душевное состояние человека в новом мире, который уже строится и когда-то будет построен.
XV. Вкус к сложности
Мы живем во времена последовательного опрощения и упрощения. Опрощается человек, упрощается мировоззрение. Отблески «старого мира» гаснут или почти уже погасли. Однако и в сумерках продолжается борьба начал, которые когда-то, при других обстоятельствах, вели личность не вниз, а вверх: к плодотворной сложности. Физика человеческой души, если можно так сказать, не меняется. Меняется только состав среды, к которой приложены ее законы.
Простоту многие считают естественным и желанным состоянием. Однако сложность не менее естественна, чем простота, и даже более желанна для ума. «Побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие», говорит Пушкин. Предпочтение простоты – знак сытости или бедности, двух состояний, препятствующих росту.
Или так скажем: воля к сложности, к обладанию отличиями – противостоит детскому или еще звериному желанию быть вместе со всеми . Каждый раз, когда человек остается один, останавливается и задумывается, он идет против природы. Высшей точки эта противоприродность достигает в культуре, а религиозно – в христианстве. Кто совершит над собой наибольшее насилие, – говорит христианство, – тот назовется великим.
Разберем эту христианскую черту. Она многое определила в нашем прошедшем, и нам придется помнить о ней в будущем, когда христианства с нами уже не будет.
Христианство – внеприродно и сверхприродно. Отсюда любовь его к чудесам. В попрании естественного – его удовольствие. В христианстве стрела духа прошла природу насквозь. Мир и человек для христианина – нечто такое, что можно гнуть и ломать по своему усмотрению. Вся современная философия «покорения природы» проникнута этим духом.
Насилие над природой, в первую очередь человеческой, а затем и природой мира, та «насильственность» европейской цивилизации, о которой говорил Данилевский – христианская черта. Современное состояние Запада, которое можно назвать всемогуществом на грани самоуничтожения – закономерное следствие тысячелетнего «преодоления природы». Божество уходящей эпохи – божество городов, техники, насилия над всем природным. Неслучайно в городах оно утвердилось прежде, чем за их пределами.
Осуждая христианство как внеприродную и против природы идущую силу, некоторые ищут укрытия в поклонении «Природе», даже дают этому поклонению название «язычества». Однако язычество не состоит в «поклонении природе». Боги и судьба – не то же, что слепая и глухая «природа». Чтобы ей поклониться, надо быть современным (то есть отученным о всякой мысли о живых и сознательных деятелях по ту сторону видимого мира) человеком. Однако верно, что разница между язычником и христианином познаётся по отношению к природе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: