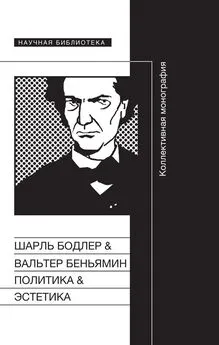Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Название:Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005131270
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография краткое содержание
Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
хорек пил мозг из птичьей головы,
и страшно перекошенные лица
ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
соединяла смерть и бытие
в единый клуб. Но мысль была бессильна
соединить два таинства ее.
Николай Заболоцкий. Лодейников в саду [18]
Излюбленной концепцией советских идеологов была теория подчинения биологического социальному и преобразования биологии по лекалам социума. За этой концепцией стояла апология колхозного строя, успехи которого объяснялись подчинением сельского хозяйства (и вместе с ним всего сельского населения и сельхозпродукции) – политике коллективизации, а значит, переносом классовой борьбы в мир природы. Борьба с генетикой и репрессии против генетиков логично вписывались в русло этой агрессивной и жестокой политики, направленной на тотальную политизацию не только социума и культуры, но также и всей природы.
Лидер и главный идеолог сталинской биополитики акад. Д. Т. Лысенко утверждал, что биология – это материал для различных социальных преобразований и экспериментов. «Согласно Лысенко, наследственность живого тела строится на основе условий внешней среды, в которых существовали многие поколения того или иного организма, и всякое изменение этих условий ведет к изменению наследственности. Этот процесс он называл „ассимиляцией внешних условий“. <���…> По мнению Лысенко, наследственные факторы, передающиеся от предков потомству, не являются чем-то неизменным или относительно неизменным – они являются ассимилированными внешними условиями». Для того, чтобы управлять биологическими процессами и радикально видоизменять их наследственность, нужно лишь «расшатать» стабильность наследственности. «Лысенко полагал, что организмы, находящиеся в дестабилизированном или „расшатанном“ состоянии, представляют особый интерес с точки зрения возможностей воздействия на их наследственность» [19].
В сфере культуры применение этой же политической доктрины вело к тому, что культура также понималась как материал политики, легко преобразуемый в нужном направлении при нажиме сверху. Все явления культуры, оцениваемые государством позитивно, «поднимались» до высших политических оценок, а все культурные явления, оцениваемые официозом негативно, «опускались» до биологии и третировались как « недо социальное», не доведенное до нужных критериев, т.е. низменное и извращенное. Неслучайно «буржуазное» и «декадентское» искусство в СССР постоянно характеризовалось при помощи физиологических и психиатрических терминов.
В связи с социобиологической интерпретацией колхозного и советского строительства поэма Н. Заболоцкого «Торжество земледелия», в которой иронически рисовалась триумфальная победа природы над социальными отношениями, была квалифицирована как пародия и клевета на колхозную жизнь и сатира на сталинскую коллективизацию, а поэт был заклеймен как подкулачник и проводник кулацкой идеологии [20]. В то же время шолоховская «Поднятая целина» была поднята на щит советской идеологии как эффектная пропаганда победы большевистской политики над природой страны, над природой человека – с его частнособственническими инстинктами, натуральным хозяйством, вековыми традициями донского казачества и русского крестьянства, опытом взаимодействия с окружающей природой. Само название шолоховского романа, воплотившего «социальный заказ» Сталинской эпохи, должно было символизировать одоление «неосвоенной природы» (поднятие «целины») – одновременно: непаханой земли и непреобразованного человеческого материала.
Написанная на шолоховский сюжет опера И. Дзержинского «Тихий Дон» (сегодня прочно забытая) сразу стала эталоном музыкального соцреализма. 17 января 1936 г., во время гастролей МАЛЕГОТа в Москве, спектакль посетили Сталин и Молотов, встретившиеся с автором оперы и руководителями постановки. Во время беседы вожди «дали положительную оценку работы театра в области создания советской оперы, отметили значительную идейно-политическую ценность постановки оперы „Тихий Дон“» [21]. Акад. Б. В. Асафьев в то же время резюмировал: «„Тихий Дон“ – на своем этапе – отстоял и оправдал права на признание здоровых и жизненных корней в советской опере» [22]. Воодушевленные успехом и признанием композитор И. И. Дзержинский и дирижер спектакля С. А. Самосуд откликнулись на беседу с благосклонными вождями проникновенными статьями, опубликованными 21 и 24 января 1936 г. [23].
А 28 января в «Правде» была опубликована знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», – не то продиктованная Сталиным, не то написанная по его заданию – в связи с посещением 26 января вождями в ГАБТе оперы Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» [24]. В статье «естественной, человеческой музыке» [как в опере «Тихий Дон» И. Дзержинского. – И.К. ] противопоставлялась «нервозная, судорожная, припадочная музыка» Шостаковича [заимствованная, по мнению авторов статьи, из джаза! – И.К. ], которая затем называется еще «дергающейся, крикливой, неврастенической». «Опера эта сумбурна и абсолютно аполитична», – поэтому, говорится в статье, «она щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории». Неоднократно подчеркивая «грубо натуралистические черты» музыки Шостаковича, статья утверждает, что «музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены»; «в таком же грубо натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене». «…Сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. Однотонно, в зверином обличии представлены все – и купцы и народ» [25].
Так, Д. Шостакович был осужден за «натурализм» и «физиологизм» его музыки, будто бы проявившиеся в его опере «Леди Макбет Мценского уезда», которая в одночасье предстала едва ли не чисто биологическим феноменом! Стремясь «идти в ногу со временем», Б. Асафьев счел возможным охарактеризовать Шостаковича «как композитора музыкального театра „вне этики“», ссылаясь не только на «Леди Макбет», но и на более ранний «Нос» [26]. Если «Нос», по Асафьеву, посвящен изображению «людей – нелюдей», то «Катерина Измайлова» [второе название оперы «Леди Макбет». – И.К. ] обращена к «предельно цинично себя обнаруживающей чувственности» [27]. Ставший к этому времени вполне официозным критиком, Б. Асафьев задним числом объяснял предпочтение Сталиным оперы И. Дзержинского – опере Д. Шостаковича: «…Советская общественность резко предпочла оперу таланливого юноши Дзержинского 2 2 Дзержинский был лишь на два с половиной года младше Шостаковича. Скорее их можно было считать ровесниками.
„Тихий Дон“, потому что в ней на основе эпизодов знаменитого романа Шолохова повеяло свежестью народной лирики и реализмом народных характеров. На сцене вновь появились люди живой интонации и естественной повадки, мелодии одушевились песенностью, лирика стала вновь выразителем здорового чувства. Вот за эти дорогие слуху и сердцу массового слушателя свойства опера „Тихий Дон“, при некоторой ее профессионально несовершенной технике, была приветно принята и прошла почти по всем оперным сценам Советского Союза» [28].
Интервал:
Закладка: