Вадим Руднев - Прочь от реальности: Исследования по философии текста
- Название:Прочь от реальности: Исследования по философии текста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2000
- Город:М.
- ISBN:5-7784-0093-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Руднев - Прочь от реальности: Исследования по философии текста краткое содержание
Книга русского философа, автора книг «Винни Пух и философия обыденного языка», «Морфология реальности», «Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты», посвящена междисциплинарному исследованию того, как реальное в нашей жизни соотносится с воображаемым. Автор анализирует здесь такие понятия, как текст, сюжет, реальность, реализм, травма, психоз, шизофрения. Трудно сказать, по какой специальности написана эта книга: в ней затрагиваются такие сферы, как аналитическая философия, логическая семантика, психоанализ, клиническая характерология и психиатрия, структурная поэтика, теоретическая лингвистика, семиотика, теория речевых актов. Книга является фундаментальным и во многом революционным исследованием и в то же время увлекательным интеллектуальным чтением.
Прочь от реальности: Исследования по философии текста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы не должны переоценивать результаты нашего эксперимента, но тем не менее из проведения его явствует, что как бы ни различались поверхностные психические структуры высказывания, во всех патологических типах дискурса: нормальном, невротическом, обсессивном, паранояльном и шизофреническом – сохраняется одна и та же глубинная структура, тема дискурса: покупка слив как попытка соблазнения матерью Вани, желание Ваней матери-сливы, съедание сливы как нарушение запрета на инцест – разоблачение и месть отца. А раз так, раз любая глубинная структура изначально безразлична к тому, является ли высказывание нормальным или патологичным, то концепция безумия может быть не только фукианской (безумие распространяется и дифференцируется по мере распространения соответствующих понятий и социальных институций [ Фуко 1997 ] ), но и уорфианской: мы видим какое-то девиационное поведение и даем ему название.
Мы слышим непривычную речь и определяем ее как речь сумасшедшего. При этом у нас нет никаких гипотез относительно того, что происходит у этого человека в сознании, – и, поскольку глубинная структура безразлична к тому, патологическим или нормальным является дискурс, а последнее проявляется только на уровне поверхностной структуры, то, стало быть, безумие – это просто факт языка, а не сознания.
Но что же получается, значит, настоящие шизофреники, которые лежат в больнице, – это не сумасшедшие: научите их говорить правильно – и они будут здоровыми? Именно так. Но беда в том, что научить их говорить нормально невозможно. Значит, они все-таки нормальные сумасшедшие. И тогда получается, что сумасшедший – это тот, кто не умеет нормально говорить. Это, конечно, скорее точка зрения аналитической философии безумия (если бы таковая существовала).
Но мы не правы, когда противопоставляем «биологический» психоанализ и «структурный» психоанализ. Мать и отец в Эдиповом комплексе – это языковые позиции. Мать – источник потребности, а затем – желания. Отец – Закон (недаром говорят « буква закона»; одно из излюбленных словечек Лакана – «Инстанция буквы в бессознательном»). Эдипов треугольник – это треугольник Фреге: знак – означаемое – означающее.
Когда мы противопоставляем психическое заболевание экзогенное, например травматический невроз или пресенильный психоз, эндогенному, то мы думаем об эндогенном, генетически обусловленном заболевании как о чем-то стопроцентно-биологическом, забывая, что генетический код – это тоже язык, и, стало быть, эндогенные заболевания также носят знаковый характер.
Но покинем хотя бы на время ортодоксальную стратегию аналитической философии и предположим, что каждая языковая игра так или иначе связана, условно говоря, с биологией. Чем более примитивна в семиотическом смысле языковая игра, тем явственнее ее связь с биологией. Когда человеку больно, он кричит и стонет, когда ему хорошо, он улыбается. Это самая прямая связь с биологией. Наиболее явственное усложнение подобной связи – конверсия. Например, когда убивают христианского мученика, он улыбается. Так сказать, «Хватило бы улыбки, / Когда под ребра бьют».
Более сложные опосредования: как связана с биологией лекция профессора? Можно сказать, что у профессора природная «биологическая» тяга читать лекции. Так же, как у вора – воровать и у убийцы – убивать. Но все равно здесь связь с биологией более опосредованна, чем желание алкоголика напиваться или наркомана колоться.
Из этих различных опосредованностей между речевыми действиями и биологией и состоит в сущности человеческая культура. Культура – это система различного типа связей между биологией и знаковой системой. Если бы все типы связей были одними и теми же, то никакой культуры вообще не было бы. Например, если бы черный цвет однозначно во всех культурах означал траур и мы связали бы это с тем, что черное наводит тоску, проделали бы соответствующие тесты, которые подтвердили бы это наше наблюдение, то в этом случае элиминировалось бы противопоставление между теми культурами, у которых черный цвет действительно означает траур, и теми, у которых траурный цвет – белый. То есть подобные культуры просто в таком случае не считались бы культурами.
Поэтому неверно противопоставлять «биологизатора» Фрейда «лингвисту» Лакану. В этом смысле Лакан вовсе не лукавил, когда говорил, что он не придумывал ничего нового, а просто договаривал то, чего Фрейд не договорил.
Мы говорим о шизофрении как об объективном психическом заболевании, как о состоянии сознания. Но можно ли называть Гельдерлина шизофреником, если термин «шизофрения» был изобретен через много лет после его смерти?
Кажется, что можно сказать: «Достоевский никогда не ездил на БМВ». На самом деле эта фраза прагматически бессмысленна, потому что к ней невозможно подобрать актуальный контекст употребления. Чем же тогда она отличается от предложения: «Во времена Достоевского не было автомобилей»? Тем, что последняя фраза может иметь какой-то приемлемый контекст.
Мы можем сказать: «Во времена Гельдерлина не было слова „шизофрения“, но если подбирать современный эквивалент к тем симптомам, которые проявлялись у Гельдерлина, то понятие „шизофрения“ к нему подойдет больше всего». Что неправильного в таком рассуждении? Уверены ли мы, что симптомы такой сложной болезни, как шизофрения, существуют изолированно от того культурного и социального контекста, при котором это слово возникло? Разве мы не согласимся с тем, что шизофрения – это болезнь XX века, но не потому, что ее так назвали в XX веке, а скорее потому, что она чрезвычайно характерна для самой сути XX века, и потому-то ее и выделили и описали только в XX веке. То есть слово «шизофрения» появилось до того, как появилась болезнь шизофрения.
Но пример с Гельдерлином не вполне показателен, это все-таки поэт, каким-то образом причастный культурным ценностям XX века (хотя бы тем, что его психическую болезнь задним числом назвали шизофренией). Но что если сказать, например, что у вождя племени на острове Пасхи обнаружилась шизофрения? Нелепость этого примера с очевидностью доказывает нашу правоту в том, что понятие шизофрения в очень большой степени является культурно опосредованным.
Сложнее обстоит дело с типологией характеров, идущих от Кречмера. Характер – совокупность каких-то чисто физиологических и психологических, соматических характеристик. И все же мы считаем неправильным говорить, что Юлий Цезарь был эпилептоид, а Фома Аквинский – шизоид-аутист. Потому же, почему не является истинным предложение: «Достоевский никогда не ездил на БМВ». Нет, так сказать, оперативного повода, чтобы назвать Аквинского шизоидом. Тогда так не говорили. Нет слова – нет и характера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
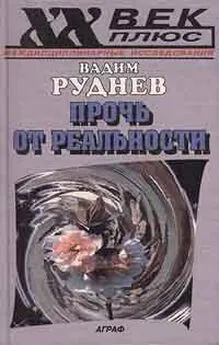

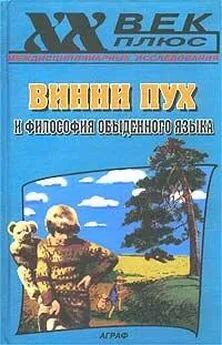




![Умберто Эко - Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres]](/books/1148669/umberto-eko-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semioti.webp)