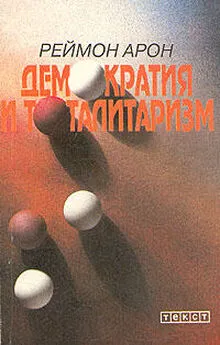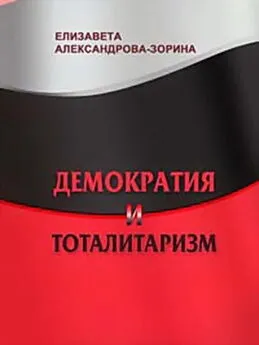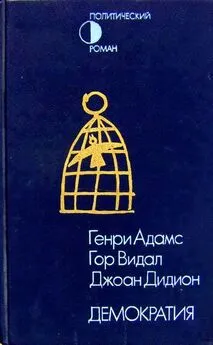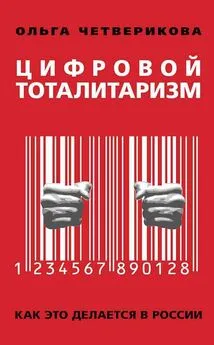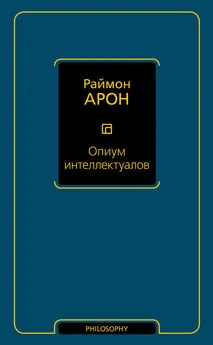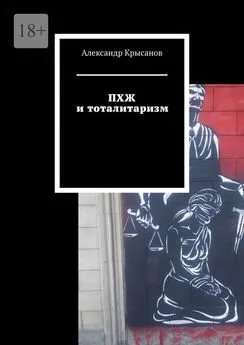Реймон Арон - Демократия и тоталитаризм
- Название:Демократия и тоталитаризм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Реймон Арон - Демократия и тоталитаризм краткое содержание
Книга «Демократия и тоталитаризм» — один из наиболее известных трудов знаменитого французского политолога и философа, долгое время не издавалась в нашей стране. Работа Р. Арона особенно актуальна сейчас, когда перед нашей страной открыты оба пути, обозначенные в названии книги.
Демократия и тоталитаризм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Действительно, государство неотделимо от партии, как партия — от своей идеологии, которая, в свою очередь, не может быть оторвана от определенных исторических воззрений. Но эти воззрения отражают не только эволюцию обществ, но и беспощадную борьбу между классами, между добром и злом. Государство, поглощающее все профессиональные и политические организации, по сути своей в непрерывном становлении. Для исторического движения, в которое втянуты одновременно общество и государство, характерны две на первый взгляд противоречащие друг другу черты: в теории оно подчиняется исторической необходимости, на деле же является лишь следствием решений, принимаемых малочисленной группой людей, а то и единолично лидером государства.
Как же сочетается учение об исторической необходимости с исключительной ролью отдельных личностей? Марксистское учение ставит во главу угла примат экономики и сил социума и придерживается такой схемы истории, по которой история, преодолевая любые преграды, идет от капиталистического режима к социалистическому по мере того, как развиваются производительные силы и обостряются противоречия в производственных отношениях.
Подобный взгляд на историю характерен для П Интернационала, и в особенности для немецких социал-демократов, занимавших там господствующую позицию. Этот взгляд был настолько детерминистским, что некоторые социал-демократы испытывали искушение отдаться на волю объективной диалектики и пассивно дожидаться неизбежной революции. Помнится, еще в 1932 году я слышал в Германии, как один оратор воскликнул: «Мы, социал-демократы, можем ждать, так как мы представляем целый класс, мы однородная партия, диалектика истории на нашей стороне». Несколько дней спустя Гитлер был у власти, и, несмотря на диалектику истории, оратор попал в концлагерь.
III Интернационал порвал с этим объективистским взглядом на ход истории. Ленин и большевики отвергли пассивное смирение перед лицом исторического детерминизма, встав на позицию утверждения своей воли. Когда Ленину приходилось выбирать между буквой учения и необходимыми действиями, он никогда не колебался, принося в жертву учение или, во всяком случае, приспосабливая его к потребностям данного момента и находя оправдание тем поступкам, которые несколькими годами ранее осуждал в теоретических работах. До 1917 года Ленин резко выступал против тех, кто верил в социалистическую революцию в России, — стране, не прошедшей капиталистического пути развития. В 1917 году Ленин захватил власть в России. Отправной точкой революции была идея исторической миссии пролетариата, ставшей отныне исторической миссией партии, которая, в свою очередь, стала воплощением пролетариата. Следовательно, что бы ни делала партия, это соответствует миссии пролетариата и законам истории. Объективно же партия в Советском Союзе главным образом творит произвол. Марксистская теория не уточняла, каким будет государство в переходный период от капитализма к социализму. Идеи «Капитала» еще оказывали влияние на руководство экономикой, но военный коммунизм, нэп, пятилетние планы стали ответами большевиков на неожиданные обстоятельства. Так возникло основное противоречие: учение ссылается на исторический детерминизм, а практика оставляет право на решение кучке людей или даже одному человеку. Следствием такого волюнтаризма стало преображение самой марксистской идеологии.
Марксистское учение допускает много толкований. В советском марксизме содержатся элементы, о которых Маркс никогда не помышлял. Учение интерпретируется шире или уже в зависимости от обстоятельств.
Шире — когда провозглашается ортодоксальность в области живописи, музыки, гуманитарных наук, истории и, в конце концов, даже биологии. Идеологические указы о живописи или о музыке не имеют ничего общего с высказываниями Маркса и Энгельса, которые выражали свои личные пристрастия, а не точку зрения пророков социализма. Маркс и Энгельс настаивали на том, что существует связь между общественной средой и искусством (с чем согласится каждый, марксист он или нет), но никогда не говорили, какими должны быть музыка или живопись при социализме. Формализм в музыке объявлен буржуазным и реакционным пережитком в силу различных обстоятельств, подробно разбирать которые у меня нет времени. Абстрактную живопись тоже долго считали выражением буржуазного декаданса. Кстати, негативно относились к абстрактной живописи и национал-социалисты.
Ортодоксальность в области гуманитарных наук необходима Советскому государству. Оно положило в основу идеологии определенную трактовку истории и общества, и мы, социологи, могли бы гордиться тем, что отныне социология стала религией для трети человечества. Но надо помнить, что важнейшая характерная черта режима, при котором социология сливается с официальной государственной идеологией, — подчинение государству и его идеологии. Но и здесь остается какая-то возможность маневрировать — то больше, то меньше.
В XIX веке царская Россия осуществила ряд завоеваний. В рамках официального учения эти завоевания могли получить двоякое истолкование. Либо захват Средней Азии был проявлением царского империализма, который так же достоин осуждения, как и империализм западный (такая оценка была принята в первые годы большевистского режима), либо же завоевание Средней Азии, даже если это было империалистической политикой, имело и прогрессивное значение, раз уж армия оказалась проводником более развитой цивилизации, а великорусскому народу было суждено стать творцом спасительной революции. Все, что способствовало включению какого-то народа в состав социалистического государства, объявлялось прогрессивным. Между осуждением царского империализма и восхвалением его прогрессивных действий находится целый спектр полутонов. Официальная трактовка постоянно колебалась между этими двумя крайностями. Для отдельного человека единственной постоянной обязанностью было не ошибиться, не отстать от официальной трактовки и не опередить ее.
Крайней формой такого расширительного толкования марксизма стал ортодоксальный подход к любой естественнонаучной дисциплине. Впрочем, здравый смысл подсказывает, что в этой области заходить слишком далеко не следует: ведь ортодоксальность неблагоприятно сказывается на развитии науки. Естествознание слишком полезно для государства, для его могущества, чтобы осмелиться тормозить его развитие. Однако на последней стадии сталинского режима началось осуждение менделизма, который был объявлен противоречащим социалистической истине. Нашлись хитроумные толкователи, сумевшие обосновать это, ведь теория однородного общества всячески преуменьшает значение врожденных различий между отдельными людьми. Цель нападок, обрушившихся на генетику при Сталине, — отрицание наследственной передачи приобретенных признаков и утверждение относительной устойчивости генофонда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: