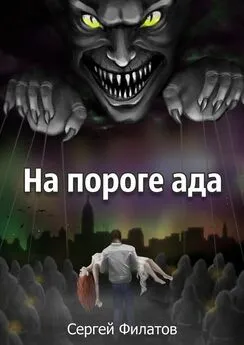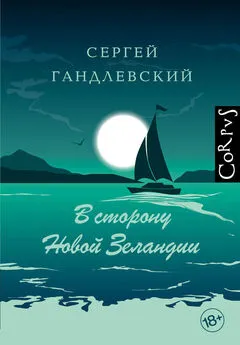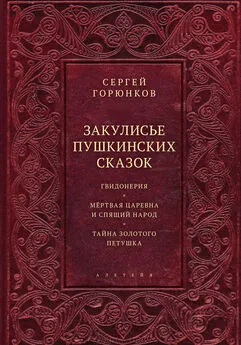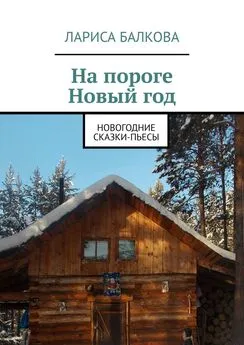Сергей Горюнков - На пороге новой мировоззренческой парадигмы
- Название:На пороге новой мировоззренческой парадигмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-006-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Горюнков - На пороге новой мировоззренческой парадигмы краткое содержание
На пороге новой мировоззренческой парадигмы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В самом деле: посмотрим, на какие темы разговаривает обезьяна. Она, оказывается, может сказать «дай мне попить», «почеши мне спину» и даже обозвать человека, который ей не нравится, «грязным». Но ни одна обезьяна в процессе обучения так и не смогла достичь уровня, начиная с которого с ней можно было бы поговорить, например, о философии, о политике, об искусстве. И дело тут вовсе не в том, что существует «потолок» в количестве запоминаемых обезьяной слов; существование такого «потолка» никто ещё не доказал. Дело в качестве слов, а точнее – в различении слов, обозначающих конкретные предметы, и слов, обозначающих отвлечённые понятия .
Поясню. Если я попрошу собеседника: Дай мне эту книгу, – он её даст, если захочет. Но если я его попрошу: Дай мне добро (зло), или: дай мне истину (ложь), или: дай мне социализм (капитализм, фашизм, демократию и пр.) – что он мне даст, если даже и захочет? Ничего, потому что за всеми этими словами стоят не конкретные предметы, а неоднозначные понятия, интерпретируемые посредством других неоднозначных понятий.
Пример свидетельствует, что если язык, роднящий нас с нашими «меньшими братьями», состоит из слов, обозначающих конкретные предметы, то язык, делающий нас собственно людьми, состоит из слов, обозначающих отвлечённые неоднозначные понятия. А поскольку понятие – это слово, замкнутое смысловыми связями на другие слова-понятия, то разница между языком животных и языком людей – это разница между условными «первичными» и «вторичными» знаковыми системами: между механической суммой «означающих» (отдельных, не связанных друг с другом словесных бирок) и их взаимосвязанной смысловой структурой (языковым тезаурусом).
«Троянский конь»
Неразрывное сосуществование в человеческом языке двух типов знаковых систем делает этот язык очень похожим на «троянского коня»: снаружи всё выглядит как «вторичная знаковая система», а внутри скрыто присутствует «первичная». И сходство здесь далеко не формальное, – оно потенциально содержит в себе тот же самый подвох, которым обернулся для древних троянцев пресловутый конь. Дело в том, что различение в человеческом языке двух одновременно действующих знаковых систем позволяет совершенно по-новому взглянуть на последствия применения в управленческой практике бирочной технологии. Ведь если с её помощью отвлечённое неоднозначное понятие обретает в сознании воспринимающих видимость чего-то конкретного, предметно-объективного , то отсюда следует, что бирочная технология – это идеальный инструмент превращения собственно человеческого мышления в мышление «говорящих обезьян» (=«собак Павлова»). Что и подтверждается фактом нынешних, весьма удручающих, тенденций в развитии современной массовой культуры.
С другой стороны: «сюрприз» ожидает нас и со стороны внешней оболочки «коня». Ведь если специфика вторичных знаковых систем сводится к замкнутому в тавтологическом «круге» тезаурусу, а мир воспринимается сознанием через «очки» этого тезауруса, то, следовательно, языковой тезаурус является одновременно и объектом изучения своей «вторичной» специфики, и само́й информационной субстанцией познающего субъекта, его «Я». Или, ещё проще: тезаурус – одновременное вместилище и субъектной, и объектной функций познания.
Но если человеческий язык одновременно – и объект познания, и его субъект, то, значит, прав был В. Гумбольдт, полагавший, что язык имеет самостоятельную жизнь, как бы вне человека, и господствует над ним своею силою [55]. Значит, правы и те современные исследователи, которые считают, что «язык, являясь системой, развивается помимо наших желаний, амбиций и вкусов» [56]. Их правота – это правота точки зрения (до сих пор не получившей беспристрастной научной оценки), согласно которой на уровне использования «вторичных» знаковых систем не мы говорим языком, а он говорит нами .
«Наивный объективизм»
Речь идёт о том, что все наши вопросы о сути человеческого бытия являются на самом деле вопросами, изначально продиктованными нам, в обход сознания, смысловой структурой самого языка. И в первую очередь это относится к наиболее фундаментальным вопросам о происхождении Вселенной, Земли, Жизни, и Разума: как давно уже было замечено, все они имеют своей подлинной предпосылкой не объективную логику независимой научной мысли, а мифо-религиозную концепцию «Начала Мира», бессознательно унаследованную позднейшей философией и наукой [57]. Т. е. все они отсылают вопрошающее сознание не к внеязыковой реальности (что подразумевается по умолчанию в системе традиционно понимаемого историзма [58]), а именно к языковой – к мифологической по своим корням презумпции «происхождения» [59].
Неожиданной данную ситуацию не назовёшь, – её осознавал ещё Э. Кассирер: «Вместо того, чтобы подразумевать под “происхождением” мифологическую потенцию, мы начинаем видеть в нём научный принцип и именно как таковой учимся его понимать» [60]). Тем не менее в науках, основанных на идее временно́й динамики (в космологии, в геологии, в эволюционной биологии, в истории) гипноз понятия «происхождения», создающего иллюзию высвобождения из плена замкнутых на себя понятий, не развеян до сих пор. Что и неудивительно: для закосневшего в привычных ментальных штампах современного научного сознания выход из такого гипноза равнозначен самоупразднению. Ведь признать, что за словом «происхождение» стоит не объективный реальный процесс, а условное понятие, наделённое функцией связывания других понятий тезауруса в единую вербальную структуру с «происхожденческим» смысловым наполнением – означает признать научную несостоятельность всей эволюционно-исторической познавательной парадигмы – основы современной научной картины мира.
Естественно, к такому признанию современный исторический стиль мышления совершенно не готов. Но именно поэтому он и удостоен меткой характеристики «наивного исторического объективизма» [61]. «Наивного» потому, что объяснять происхождение чего-либо посредством презумпции «происхождения» – означает замыкаться в плену тавтологий.
Иллюзия «понимания»
Обострим ситуацию до предела: если на все свои вопросы, от элементарных до фундаментальных, мы имеем одни лишь тавтологичные ответы, то что тогда называть «пониманием»? И вправе ли мы вообще претендовать на него?
Вовсе не случайно эти вопросы задаются всё чаще и чаще, как свидетельства наступившего «кризиса понимания» [62]. « Мы не понимаем, что мы не понимаем… Мы не понимаем, что жемы не понимаем… Мы не понимаем, чтомы должныпонять» [63]. Как следствие, «“человеком понимающим” сегодня полагает себя едва ль не каждый, кто умственно здоров. Тем более, если он занял какую-то значительную позицию в системе управления обществом или государством, да еще каким-то образом приобрел ученую степень или просто заимел много денег. Спросите такого человека: “Что же ты знаешь?” И окажется, что сплошь и рядом он знает слова и названия явлений, событий, процессов, но не их содержание, не глубинный смысл, то есть сущность. Знание сущности предмета подменяется знанием его названия, которое принимается за понимание. На самом деле это иллюзия знания, иллюзия понимания» [64].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: