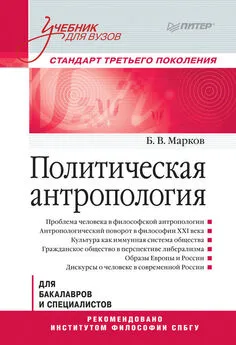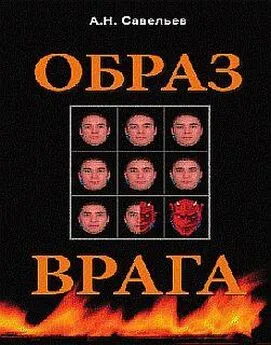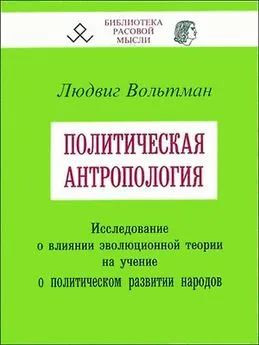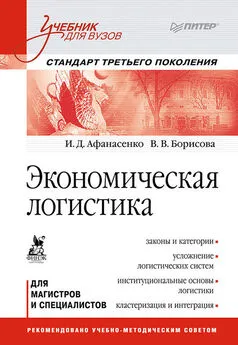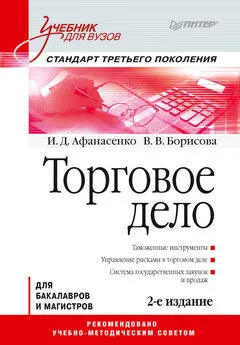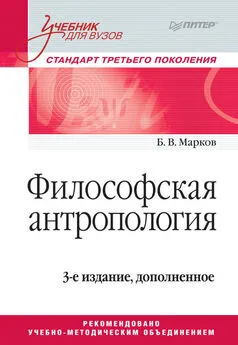Борис Марков - Политическая антропология. Учебник для вузов
- Название:Политическая антропология. Учебник для вузов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-496-02537-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Марков - Политическая антропология. Учебник для вузов краткое содержание
В книге рассматриваются такие вопросы, как государство и человек, сакральная антропология, практики политического воспитания, гражданское общество в перспективе либерализма, культура как иммунная система общества, образы Европы и России, статус чужого (ксенофобия и ксенофилия) и многие другие.
Сегодня создается искусственная окружающая среда, которая формирует человеческие качества. Изучению ее антропогенных последствий и посвящена данная книга, предлагаемая политологам, философам, культурологам, экономистам, психологам, социологам и всем читателям, интересующимся положением человека в современном мире.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Политическая антропология. Учебник для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Либерализм – это рационализм в политике: государство определяется как продукт рационального общественного договора, посредством которого планировалось достижение мира и счастья для максимального числа людей. Но сами «счастье» и «человечность» понимались как усредненные, а не уникальные характеристики. Таким образом, на передний план вместо политики, требующей самопожертвования, выдвигается экономика. Кроме экономики либерализм акцентирует этическое учение о свободе. Общество понимается как свободное объединение людей на основе рационального выбора. Орудиями свободы становятся рассуждения. Поскольку люди изначально добры, нет необходимости ни в авторитетах, ни в традициях, ни в запретах. Война, насилие, политика – все отходит на второй план, споры и конфликты решаются в судах, моральные вопросы обсуждаются в публичных дискуссиях. Если раньше воинственные народы побеждали торговые, то теперь все наоборот.
Либерализм исходил из допущения доброты. Консервативная доктрина политической антропологии исходит из дисгармоничности, двойственности, непредсказуемости и опасности человека. Это и есть собственно политическое мышление в отличие от размышления о политике. Включившись в политику, разум стал политическим фактором, начал битву за рациональность и моральность. Но, пожалуй, главный принцип либерализма – это верховенство права. Наоборот, консерваторы считали, что право не обладает абсолютной независимостью. Первоначально оно охраняло порядок, разрешало конфликты. При капитализме «верховенство закона» служит охране несправедливо нажитого богатства. Гоббс признавал, что право – это право сильного и обслуживает тех, кто его учредил. Коммунистов и консерваторов объединяет разоблачение лицемерия, аморальности, цинизма ростовщика, апеллирующего к верховенству закона, узаконивающего нищету миллионов. Недопустимо обогащение одних за счет эксплуатации других. В отличие от монархов финансисты вообще не несут никакой ответственности за грабеж. Это апофеоз эгоизма, они не думают ни о славе, ни об истории, ни о государстве, зато подвержены коррупции, поскольку ценят только деньги.
Государство как конструкт и органическая целостность
Ответ на вопрос, что такое государство, философия дает не ссылками на его «природу» или «сущность», а рефлексией относительно условий, определяющих в то или иное время трансформацию понятия государства. Первое, что нужно прояснить: государство является неким исторически складывающимся образованием, которое репрезентируют теории, или, наоборот, первичным выступает понятие государства, которое воплощается в политической практике? Это не такой смешной вопрос. Будь то внешний мир или состояния сознания, все они находят свое выражение в языке. Стало быть, именно понятийный аппарат является условием селекции и интерпретации явлений. Но все же нельзя однозначно утверждать, что онтология, в том числе и социально-политическая, определяется ресурсами нашего языка. В конце концов, внешний мир и социальная реальность, как говорится, «даны нам в ощущениях», а также в переживаниях комфорта и страдания, насилия и свободы и т. п. экзистенциальных модальностях. Кризис в основаниях науки возродил интерес к «жизненному миру», который стали считать чуть ли не фундаментом рациональности. Но не поспешили ли В. Дильтей, Э. Гуссерль и М. Хайдеггер объявить переживания и остальные «экзистенциалы» аутентичной формой самодостоверного опыта? На самом деле следует усомниться в их очевидности. Например, недовольство, выливающееся в социальный протест, может быть вызвано самыми разными факторами: элементарным голодом, нищетой, эксплуатацией, насилием, но также и нашими, возможно, завышенными представлениями о хорошей жизни, наконец, моральными оценками, касающимися равенства и справедливости. В эпоху информационных технологий такие «реальности», как государство, общество, справедливость, являются продуктами сознания, которое не просто репрезентирует «сущности», но и выявляет их в потоке жизни как исторического становления. Вместе с тем точка зрения, согласно которой государство, общество и даже «голая жизнь» – это конструкты, наталкивается на сопротивление людей. Нужно говорить не об устранении государства, а о его трансформации, в ходе которой оно не только не ослабевает, но, наоборот, усиливается.
Сегодня философ уже не претендует на роль судьи, а позиционируется как арбитр, пытающийся согласовать противоположные позиции. Общественный порядок складывается не в результате учреждения абсолютной истины или всеобщего права, а как относительно устойчивый баланс противоборствующих сил. Обычно, вслед за Гоббсом, считают, что суверенитет закона устанавливается в процессе победы разума над страстями. Но не скрыта ли в универсальных правах человека история победы реальных сил? Не является ли понятие человечности узурпированным европейцами, которые навязывают его остальному миру? Сегодня этот вопрос приходит в голову тем, кто видит отрицательные последствия модернизации традиционных обществ.
Что происходит с обществом сегодня, как оно формируется и каким мы его видим? Возможно ли, так сказать, «экзистенциальное государство», которое существует для человека и где нет отчуждения? Как совместить индивидуальное существование и судьбу народа, свободу выбора и культ вождя? На практике у диктаторов, стремящихся построить идеальное государство, получалась смесь бонапартизма и бюрократии.
Обдумывая различные ответы на вопрос, какой человек нужен для государства, поневоле приходишь к вопросу, кто говорит о государстве. Современные авторы рассуждают о нем от лица автономного индивида. Возможно, именно это и определяет критическое к нему отношение. Не следует ли посмотреть на социальную реальность как бы «нечеловеческим» взглядом? «Трансгуманистическая» установка становится сегодня все более популярной. Например, возрождается сакральный подход к государству. Такие авторы, как Д. Агамбен, Р. Жирар, акцентируют его темное и ужасное начало – насилие, власть, преступления, жертвы. [21] Агамбен Д. Homo sacer. – М., 2011; Жирар Р. Насилие и священное. – М., 2010.
Но в нем остается осадок божественного происхождения. Поэтому политическая теология соседствует с сакральной. Целью политики являются вовсе не земные, экономические, а более высокие, трансцендентальные интересы. В своей «Политической теологии» К. Шмитт пришел к выводу, что основные понятия учения о государстве есть не что иное, как секуляризированные понятия теологии. [22] Blumenberg H., Schmitt C. Briefwechsel 1971–1978. – Frankfurt am Main, 2007. – P. 165.
На управление обществом претендуют политики, экономисты, юристы, историки, ученые, духовные пастыри, рекламщики, пиарщики, звезды шоу-бизнеса и спорта и другие социальные дизайнеры. Сегодня стали говорить о «цивилизованном обществе». Разработка этого проекта, нацеленного на «длинную историю», предполагает исследования ментальности и телесности в технологиях феноменологии, герменевтики, структурализма, аналитической философии и других продвинутых философских направлений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: