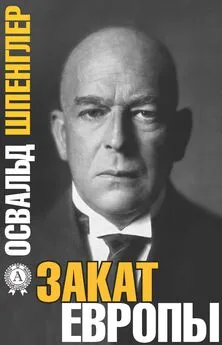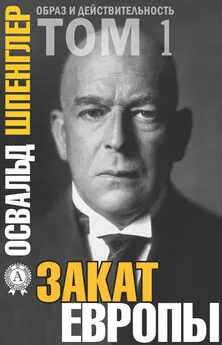Ф. Степун - Освальд Шпенглер и Закат Европы
- Название:Освальд Шпенглер и Закат Европы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ф. Степун - Освальд Шпенглер и Закат Европы краткое содержание
Предлагаемый сборник статей о книге Шпенглера "[Der] Untergang des Abendlandes" не объединен общностью миросозерцания его участников. Общее между ними лишь в сознании значительности самой темы — о духовной культуре и ее современном кризисе. С этой точки зрения, как бы ни относиться к идеям Шпенглера по существу, книга его представляется участникам сборника в высшей степени симптоматичной и примечательной.
Главная задача сборника — ввести читателя в мир идей Шпенглера. Более систематическому изложению этих идей посвящена статья Ф. А. Степуна. Но и остальные авторы, делясь своими впечатлениями от книги и мыслями о Шпенглере, пытались по возможности воспроизводить объективное содержание его идей. Таким образом — по заданию сборника — читатель из четырех обзоров должен получить достаточно полное представление об этой, несомненно, выдающейся книге, составившей культурное событие в Германии.
Освальд Шпенглер и Закат Европы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот художественно-исторический релятивизм наталкивается прежде всего на одно основное возражение, непреодолимое для всякого релятивизма. Возражение это, до банальности элементарное и на первый взгляд безжизненно-педантичное, все же убийственно для всякого релятивизма, и потому его приходится неустанно повторять. Оно сводится к обнаружению противоречия между с о д е р ж а н и е м релятивизма и формальным смыслом его, как определенного утверждения. Если в с е на свете, без исключения, относительно, то о т н о с и т е л ь н о и э т о у т в е р ж д е н и е о т н о с и т е л ь н о с т и и следовательно, «абсолютизм» вовсе не побежден «релятивизмом». «Относительное» имеет смысл только в связи с «абсолютным», и вне этой связи теряет свой смысл. Это возражение делает Рудин в одноименном романе Тургенева цинику Пигасову, легко показывая бессмысленность «убеждения», отрицающего всякие убеждения; и это возражение, несмотря на всю его «старомодность» и «банальность», всякая истинная философия, сознающая сама себя, будет не переставать противопоставлять всякому релятивизму и скептицизму, в какой бы утонченной и талантливой форме он ни возрождался.
В отношении Шпенглера это основное возражение должно прежде всего приводить к уяснению противоречия, заключающегося между с о д е р ж а н и е м теории Шпенглера и самим фактом возможности такого с и н т е з и р у ю щ е г о обзора р а з н ы х культур, который дан в его книге. Теория Шпенглера, последовательно проведенная — теория замкнутости и отрешенности «душ» отдельных культур, их совершенной несравнимости, непроницаемости и непонятности друг для друга — опровергается лучше всего духовной личностью самого Шпенглера. Есть, значит, в глубине всех отдельных культур какая-то общая точка, что-то общечеловеческое и вечное, в чем они все сходятся — именно та сфера духовного творчества или культурного духа вообще, в которой живет мысль самого Шпенглера. Как бы различны, несходны, своеобразны ни были эти культуры, их последнее духовное е д и н с т в о доказывается, вернее сказать, реально обнаруживается, вопреки всем рассуждениям и иллюстрациям Шпенглера, в самом факте, что европеец XX-го века с любовью и чутким пониманием проникает в своеобразный дух индусской и египетской, античной и арабской культур. Пусть сам Шпенглер пытается объяснить этот факт тем, что западная, «фаустовская», культура искони проникнута «историзмом» (в отличие, например, от античной «аполлоновской» культуры, живущей мигом настоящего), и что в особенности переживаемая нами эпоха упадка этой культуры есть наиболее благоприятный момент для возникновения таких ретроспективных обзоров культур, — эти психологические доводы недостаточны, ибо не объясняют возможности подлинного о с у щ е с т в л е н и я таких замыслов.
Таким образом, исторический релятивизм Шпенглера опровергается, прежде всего, живым ощущением о б щ е — ч е л о в е ч е с к о г о е д и н с т в а, которым веет от его книги, вопреки всем ее сознательным утверждениям, и самоочевидным документом которого с л у ж и т сама его книга. Это есть первое преодоление релятивизма, так сказать, в субъективной сфере носителя культуры, в области п с и х о л о г и и культуры. Но за ним следует дальнейшее, более принципиальное преодоление релятивизма в объективной сфере самого духовного бытия, или — что то же самое — в области философии к у л ь т у р ы. Шпенглер набрасывает замысел философии культуры, или философии истории, которая должна служить заменой отвлеченной онтологии, должна быть осуществлением истинной, проникающей в последние глубины жизни, философии. Этот ценный замысел ф и л о с о ф и и ж и з н и в противоположность отвлеченной философии — замысел, в котором Шпенглер совпадает с рядом глубоких и плодотворных течений современной мысли (укажу на Ницше, Бергсона, Дильтея, Макса Шеллера)‹*›* — ставит своей задачей проникнуть в существо бытия истинно интуитивно, изнутри, через постижение глубочайшего онтологического значения категорий человеческой духовной жизни. Но у Шпенглера этот замысел остается неосуществимым и, при его понятиях, совершенно неосуществимым. Мы ощущаем смутные, туманные, непроясненные черты новой метафизики, которые назрели в духе Шпенглера, но затемнены и придавлены его историческим релятивизмом. Что это за "души культур", которые, пробуждаясь из недр безмолвия, творят целые миры и потом исчезают? Что такое есть то «Urseelentum», из которого они выступают и в лоне которого вновь растворяются? И отчего, при совершенном своеобразии и несходстве стилей тех грез или «миров», которые творятся этими душами, во всех этих мирах есть все же какое-то сходство основных содержаний — ибо во всех этих творческих грезах есть пространство и время, числа и логические отношения, Бог и мир, природа и душа? Почему же все-таки эти души, хотя грезят и по-разному, но все же один и тот же сон? Все эти вопросы рождаются непосредственно из философского замысла Шпенглера, как бы предполагаются им, но он сам не только не дает на них ответа, но и не может его дать, ибо дать их значило 6ы построить п о л о ж и т е л ь н у ю м е т а ф и з и к у, которая, при всей неизбежной относительности своего осуществления, претендовала бы, как всякая метафизика, на абсолютное значение, т. е. было бы попыткой проникнуть в абсолютное и, значит, уже порвала бы путы релятивизма. Мысль Шпенглера оттого так чарует, его отдельные обобщения оттого так метки и проникают в существо предмета, что его творчество р е а л ь н о прикасается к тем глубинам, в которых заложены в е ч н ы е и а б с о л ю т н ы е корни человека и мира; но он боится в этом сознаться самому себе, он касается этих глубин лишь извне, с непосредственной художественной симпатией к ним и интуитивным чутьем их; поскольку же мысль его оформляется и сознательно освещается, она блуждает по чисто внешней исторической поверхности человеческой жизни. Основная интуиция Гете, к которой Шпенглер, по его собственным уверениям, примыкает — интуиция, для которой "все преходящее есть только символ" ("Alles Vergдngliche ist nur ein Gleichniss") и все историческое и космическое волнение есть "вечный покой в Боге" ("alles Drдngen, alles Ringen ist ew'ge Ruh' im Gott dem Herrn"‹10›) — эта интуиция остается лишь замышленной, но не осуществленной у Шпенглера. Философия истории или философия культуры, проникающая в абсолютное существо бытия, должна, напротив, постигать преходящие исторические формы, лишь как внешнее выражение вечных и неизменных моментов жизни, как жизни самого абсолютного. Настоящая чуткость к исторически своеобразному, совершенно конкретному, настоящее живое знание достигается не релятивизмом, не блужданием в хаосе изменчивости и разрозненного многообразия, а проникновением в абсолютное и вечное ж и в о е е д и н с т в о б ы т и я и ж и з н и, из которого впервые становится понятной необходимость этого многообразия и этой изменчивости. Так релятивизм Шпенглера и в этом философском смысле предполагает то единство — здесь уже не психологическое, а онтологическое, — которое он пытается отрицать. Пафос его философии имеет в себе что-то незавершенное; его творчество как-то нерешительно витает в промежутке между глазированным эстетизмом, который — ни во что сам не веруя и ничего не творя — отдается художественному восприятию многообразных форм чужого духовного творчества (или, в лучшем смысле, проникнут бессильным романтическим томлением по духовному богатству) — и теми глубинами истинно мужественного, творящего философского духа, в которых открывается вечный и непреходящий с м ы с л всего многообразия внешних форм жизни, а, следовательно, и их коренное внутреннее единство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: