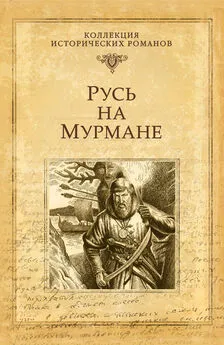Наталья Иртенина - Традиция и ускользающие смыслы бытия
- Название:Традиция и ускользающие смыслы бытия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Иртенина - Традиция и ускользающие смыслы бытия краткое содержание
В этой книге предпринимается попытка объяснить сущность Традиции. Что это такое? Какова связь цивилизации и Традиции? Почему невозможна Традиция без иерархии? В чем смысл консервативной революции? По какой причине Традиция противостоит симулякрам современной культуры? Какие из этого можно сделать выводы применительно к практической политике? Ответыавтора строятся на классических произведениях консервативных мыслителей и дополняют консервативную философию истории на современном уровне.
Традиция и ускользающие смыслы бытия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И все же распространенность «древесного» мышления (древо жизни, древо познания, мировое древо, генеалогическое древо) не может служить достаточным основанием для приравнивания этого символа к архетипу и придания ему «значения принципа работы сознания на глубинных уровнях человеческой психики». Древоподобно бессознательное или нет – вопрос весьма спорный. Несомненно одно – реализация на практике принципа «древа» служит удовлетворению нормальной и изначальной метафизической потребности человека, истоки которой действительно лежат в его бессознательном. Но способы удовлетворения ее принимают традиционные формы лишь тогда, когда эта самая потребность ассимилирована сознанием, т. е. верхними, а не глубинными (бессознательными) слоями психики. Собственно, творение «древесных» структур есть функция человеческого сознания, гармонизирующего мир при помощи иерархии в противовес искажающим и хаотизирующим влияниям бессознательного.
Но древоподобная организация культурного пространства все же не является тотальной и действительно представляет собой «одну из» «универсальных структур». Метафизическая потребность может удовлетворяться и не «внутри традиции», а вовне ее. Однако в этом случае есть все основания говорить о примитивном и частичном (неполном или неполноценном) ее удовлетворении, поскольку здесь уже напрямую задействуются глубинные уровни бессознательного, определяющие направленность и структурированность этого типа мышления, которое можно назвать антитрадиционным, т. е. не древоподобным. Бессознательное здесь играет роль отнюдь не упорядочивающего, благотворного начала, а напротив – хаотизирующего, искажающего формы и способы удовлетворения исконной метафизической потребности и потребности в знании вообще. Антитрадиционное мышление не идет по пути непрерывного поиска «первоосновы», «единого», трансцендентной инстанции и т. д. Оно не нуждается в этом, и поэтому культурный универсум, создаваемый и интерпретируемый этим мышлением, структурирован принципиально иначе. Его модель (т. е. и мышления, и представляемого им универсума) – это потенциально безграничная сетка, модель структуралистского лабиринта («ризома» Ж.Делеза и Ф. Гваттари), где каждая дорожка имеет возможность пересечься с любой другой. Тут нет ни центра, ни периферии, ни верха, ни низа, ни начала, ни конца. Естественно, ни о какой иерархии здесь речи быть не может, наоборот, сущность ризомы – принципиальная неиерархичность, это неупорядоченная сеть интерпретант, т. е. всякая истина в пространстве ризомы относительна и заменяема другой, а ее ценность и значение тотально зависимы от прихоти интерпретатора (обладателя этого релятивистского мышления).
Весьма сомнительно утверждение иных философов о том, что принцип «ризомы» – более древний и более универсальный принцип мышления, чем «древоподобный». Тем не менее, и он глубоко укоренен в человеческой культуре. У.Эко в одной из своих книг проводит параллель между современными гиперинтерпретативными теоретизированиями (60-е – 80-е гг. ХХ в.) деконструктивистов (образец воинствующего неиерархичного, релятивистского мышления) и античным и средневековым эзотеризмом (концепциями герметизма и гностицизма). Герметическая модель мироздания – огромный зеркальный зал, где все отражается во всем. Каждая вещь существует не сама по себе, а лишь постольку, поскольку является знаком, символом, отсылающим к другой вещи, а в итоге и ко всему вообще. В конце концов, интерпретация смыслов вещей уходит в бесконечность. В своем романе «Маятник Фуко» Эко «срывает покровы» именно с этого герметического мифа о «последней тайне», скрывающейся под ворохом других тайн, – той, которая есть тайная пустота: «При желании совпадения находятся всегда, повсюду и между всем, мир превращается буквально в сетку, в водоворот частиц, среди которых все отсылает ко всему и все объясняется всем». Пространство герметического знания – пространство ризомы, которую Эко вслед за Делезом и Гваттари характеризует в том числе антигенеалогичностью, т. е. беспричинностью, отсутствием генетической оси и возможностью непротиворечивой связи каждого ее элемента с любым другим. Соответственно, это – неограниченный семиозис (наделение вещи смыслом) и равнозначность любых объектов. Потенциальная готовность к смешению чего угодно с чем угодно. А это уже основа для синкретизма, в одном из своих значений более известного под одиозным именем эклектизма.
В представлении Эко, синкретизм – прямая дорога к «вечному фашизму», под которым итальянский философ понимает вообще любое проявление традиционализма, антилиберализма и «мракобесия», препятствующих прогрессу Просвещения. Немного скорректировав эту мысль, можно говорить о том, что наихудшая разновидность фашизма, германский национал-социализм, – в действительности представляет собой продукт реализуемых потенций как раз антитрадиционного мышления. Точнее, его варианта, который можно определить как неоязыческое, [3]тотально-обусловленное мышление, опирающееся на абсолютный коллективизм, скрытый или явный оккультизм и доктрины репрессивного государства.
Хотя изначально фашизм действительно возник как естественное и оправданное противодействие просвещенческим идеологиям, взращенным антитрадиционным сознанием, между нацизмом и либерализмом обнаруживается много общего. То и другое опирается на общий костыль – идею сверхчеловеческого в человеке, лишь подходя к этой идее с разных концов, оперирует одинаковыми методами обработки масс, апеллирует к инстинктам толпы и т. д.
Если модель традиционного мышления символически обозначить греческой буквой «пси» – Y (все произрастает и питается от единого ствола), то неоязыческая модель будет выглядеть как «пси», перевернутая «вверх ногами» (разумеется, и то и другое обозначение весьма условно). В последнем случае, хотя и явственно видна подчиненность элементов системы «единому», пространство универсума здесь разворачивается не в кроне «древа», а в разветвленной корневой системе. Культура этого «дивного нового мира» пропитана насквозь воинствующим наследием языческого прошлого, ворвавшегося, сметая все на своем пути, в настоящее. Прошлое живет в архетипах. К.Юнг, навязавший миру представление об этих условных структурах бессознательного, признавал, что «нет такого безумия, жертвой которого не становились бы люди под властью архетипа». Свидетельствуя об укрепляющем (в 30-е гг. ХХ в.) позиции германском фашизме, Юнг писал: «Целая нация воскрешает архаический символ и даже архаические религиозные церемонии... Человек прошлого, живший в мире архаических „коллективных представлений“, снова приобрел влияние в видимой и до боли реальной жизни».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
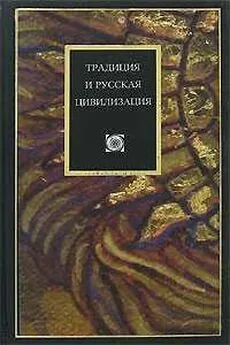

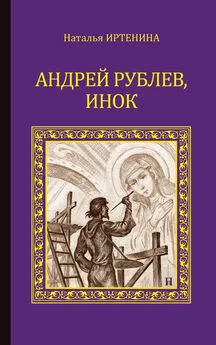
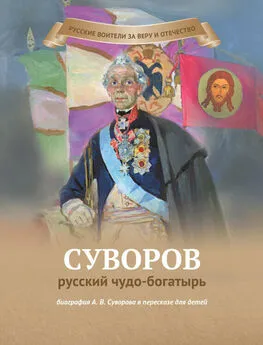
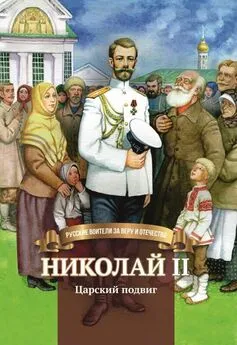
![Наталья Иртенина - Легенда о Кудеяре [litres]](/books/1144340/natalya-irtenina-legenda-o-kudeyare-litres.webp)