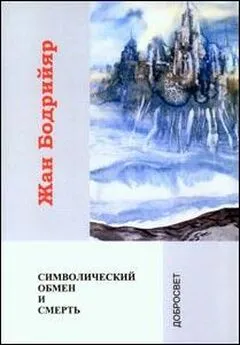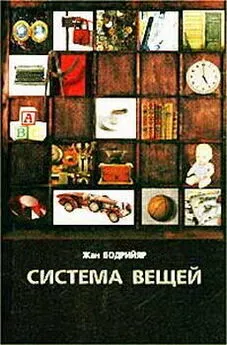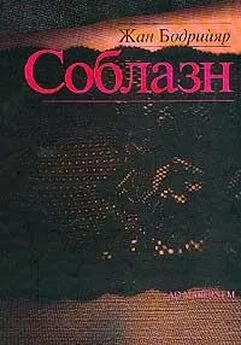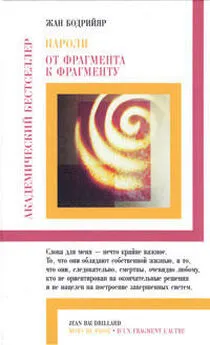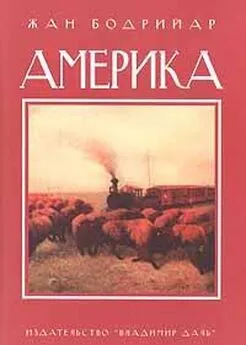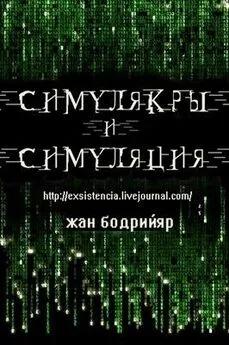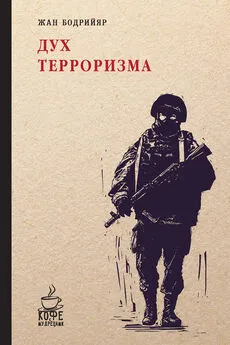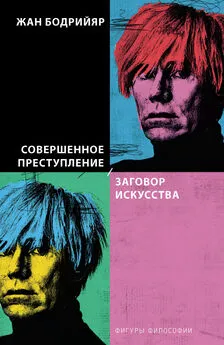Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть
- Название:Символический обмен и смерть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Добросвет
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть краткое содержание
Начав свою карьеру как социолог, Жан Бодрийяр (род. в 1929 г.) сегодня является одним из известнейших мировых мыслителей, исследующих феномен так называемого «постмодерна» — новейшего состояния западной цивилизации, которое характеризуется разрастанием искусственных, неподлинных образований и механизмов, симулякров настоящего социального бытия.
В ряду других книг Бодрияра — "Система вещей" (1968), "О соблазне" (1979, "Фатальные стратегии" (1983), "Прозрачность зла" (1990) — книга "Символический обмен и смерть" (1976) выделяется как попытка не только дать критическое описание неокапиталистического общества потребления, но и предложить ему культурную альтернативу, которую автор связывает с восходящими к архаическим традициям механизмами "символического обмена": обменом дарами, жертвоприношением, ритуалом, игрой, поэзией.
Символический обмен и смерть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Символическое — это не понятие, не инстанция, не категория и не «структура», но акт обмена и социальное отношение, кладущее конец реальному, разрешающее в себе реальное, а заодно и оппозицию реального и воображаемого (наст. изд., с. 241).
Поэтический текст — это образец наконец-то реализованного бесследного, безостаточного растворения частицы означающего (имени бога), а через нее и самой инстанции языка и, в конечном счете, разрешения Закона (наст. изд., с. 345).
[…]поэзия (или первобытный языковой ритуал) стремится не к производству означаемых, а к исчерпывающему истреблению, циклическому разрешению знакового материала […] (наст. изд., с. 337).
Эффект «разрешения» — не в диалектической трансформации, а в легком, как бы волшебном исчезновении: «там, где было нечто […] не остается ничего». Такая поэтическая аннигиляция вызывает ликующее чувство легкости и свободы: «Конец разделенности, конец кастрации, конец вытеснения, конец бессознательного. Полное разрешение, полное наслаждение» (наст. изд., с. 372); это даже не экстатическое, а эйфорическое переживание смерти, которое расходится с батаевским пониманием жертвы. Символический обмен, как и потлач, неотделим от изничтожения предметов обмена; при этом они теряют свою ценностную весомость (неважно, «потребительную» или «меновую») и улетучиваются в виде легких, бестелесных негативностей, призраков, «пережитков», которые, собственно, и обмениваются в радостном и вольном процессе циркуляции. [49] Ср.: «Ничто не обменивается в терминах позитивной эквивалентности — по-настоящему обмениваются только отсутствие и негативность» — Jean Baudrillard, Lecrimeparfait, p. 103.
Это тоже симулякры — только симулякры как бы «прирученные»; подобными мнимостями можно перебрасываться, незаметно «разрешая» их тщательной поэтической манипуляцией.
Все это выглядит довольно шатко и противоречиво, несмотря на несомненный радикализм и глубину бодрийяровской эстетики уничтожения, продолжающей традицию негативной эстетики Батая и Бланшо. «Разрешение» двусмысленно является фактором как господствующей системы, так и ее субверсии; символический обмен, с сетований на нехватку которого в современном обществе начинается книга Бодрийяра, присутствует в нем в рамках такого властно-престижного института, как рынок произведений искусства; то есть власть может опираться не только на остановку и отсрочивание смысла, но и на его «безумную», экспоненциальную циркуляцию. Задаваемая при этом темпоральность — циклическое время — тоже оказывается двойственной. С одной стороны, символический обмен разрушает «цикл ценности» (наст. изд., с. 339); с другой стороны, благодаря ему реализуется «обратимость времени — в цикле» (наст. изд., с. 42), и сам он представляет собой не что иное, как «цикл обменов, дарения и отдаривания» (наст. изд., с. 247); или, в другой формулировке, «это праздник — праздник восстановления цикла, в то время как дефицит порождает линейную экономику длительности; праздник восстановления циклической революции жизни и смерти» (наст. изд., с. 276).
Известно, что циклическое время может иметь различный смысл. В мифологическом «вечном возвращении» (и в знаменитой ницшевской интерпретации этого концепта) оно выражает собой закономерность хода вещей, соединяющей цикличность природы, выражаемую в календарных праздниках, с циклической завершенностью человеческой жизни. В позитивистском толковании оно обусловлено слепой статистической вероятностью: вещи повторяются наподобие комбинаций игральных костей, просто в силу того, что их число ограничено. Наконец, в современной цивилизации оно запрограммировано в структуре информационных систем, работающих по схеме «вопрос — ответ». Праздничная цикличность, опровергающая линейность буржуазного накопительства и взыскуемая Бодрийяром, относится к первому из этих типов; однако в современном обществе ведущей моделью цикличности является цикл моды: «В современную эпоху, по-видимому, одновременно утверждается и линейное время технического прогресса, производства и истории, и циклическое время моды» (наст. изд., с. 171). Предельной формой такой цикличности является бред навязчивых идей, который, по мысли Фрейда, выражает циклическое время влечения к смерти… Противопоставление этих разных видов циклической темпоральности так и осталось непроясненным, неразработанным в «Символическом обмене…».
Темпоральный характер имеет и еще одна бросающаяся в глаза слабость конструируемой Бодрийяром «символической альтернатавы» — настойчивая и, в общем, наивная апелляция к «первобытным обществам». Автор книги постоянно подчеркивает вредную исключительность западной цивилизации — причудливой аномалии, где «все не как у людей»: «Ни одна другая культура не знает подобной различительной оппозиции жизни и смерти […]» (наст. изд., с. 262); «необратимость биологической смерти […] специфична для нашей культуры. Все другие культуры утверждают […]» (наст. изд., с. 282); «в любом другом обществе это нечто немыслимое» (наст. изд., с. 316); «это ничем не умеренное применение языка для нас настолько «естественно», что мы его больше и не сознаем, а между тем оно отличает нас от всех других культур» (наст. изд., с. 333), и т. д. Но, противопоставляя этой выморочной цивилизации «первобытные общества» (да еще и делая это в жесткой полемике с антропологом Леви-Строссом, который, в отличие от него, годами изучал реальные первобытные общества «на месте»), он словно не замечает очевидной связи своих построений с традиционной для западной же цивилизации утопией «доброго дикаря», с мифом об идеальном, изначальном, доисторическом, довременном состоянии. А между тем еще до выхода «Символического обмена…» ему на это жестко указал, опираясь на предыдущую его книжку «Зеркало производства», Жан-Франсуа Лиотар в своей «Либидинальной экономике» (1974):
Бодрийяр слышать не желает о природе и природности […]. Но как же он не видит, что вся проблематика дара и символического обмена […] всецело принадлежит западному империализму и расизму, что вместе с этим понятием он унаследовал у этнологов и идею доброго дикаря, только чуть-чуть либидинализированного? [50] Jean-Franзois Lyotard, Economie libidinale, Minuit, 1974, p. 130.
И, напомнив процитированные выше слова Бодрийяра о том, что в первобытных обществах «нет производства, нет диалектики, нет бессознательного», Лиотар саркастически добавлял: «[…] тогда мы скажем, что нет и первобытных обществ».
В дальнейшем это вынужден был молчаливо признать и сам Бодрийяр. В его книгах 80-90-х годов ссылки на «первобытные общества» постепенно исчезают, да и вообще надежды на не-диалектическое преодоление современной цивилизации явно развеиваются. В «Символическом обмене…» прообразы такой альтернативы еще чудились ему то в прямом революционном действии («обмен между тысячами людей, говорящих друг с другом в мятежном городе» [наст. изд., с. 339], — это, разумеется, ностальгический намек на Париж 1968 года), то в политическом терроризме, то в авангардной поэзии, то даже в бесхитростном самоутверждении чернокожих подростков, пишущих свои граффити на улицах Нью-Йорка, — полтора десятилетия спустя он вынужден обескураженно признать, что «в сущности, революция действительно произошла во всем, но совсем не так, как ожидали». [51] Jean Baudrillard, La transparence du Mal, Galilée, 1990, p. 12.
Система симулякров сумела перемолоть, переработать попытки своей субверсии, сумела включить их в свой цикл потенциализации, и именно это «сильное» время симулякров, недостаточно продуманное в «Символическом обмене…», оказалось роковым для символической альтернативы.
Интервал:
Закладка: