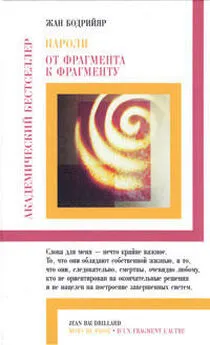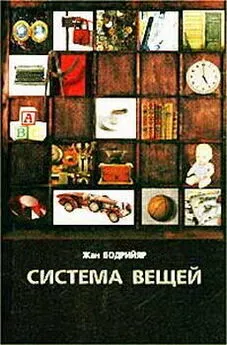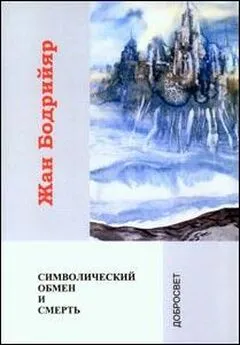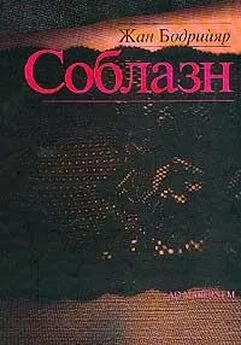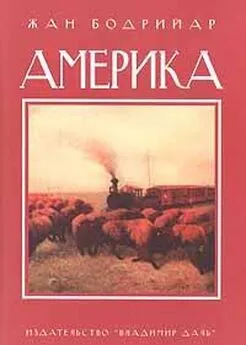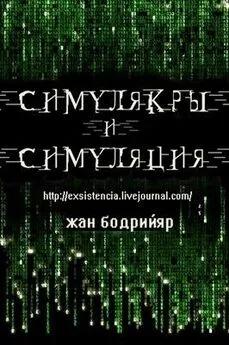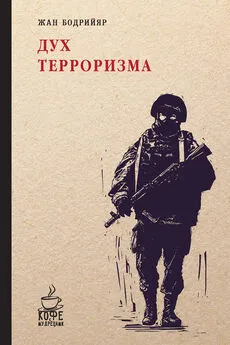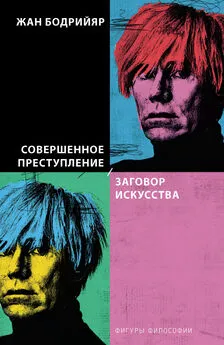Жан Бодрийяр - Пароли. От фрагмента к фрагменту
- Название:Пароли. От фрагмента к фрагменту
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:У-Фактория
- Год:2006
- ISBN:5-9709-0003-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Бодрийяр - Пароли. От фрагмента к фрагменту краткое содержание
Жан Бодрийяр (р. 1929) — один из самых известных и авторитетных французских философов и критик современности, автор книг, многие из которых стали классикой современной гуманитарной науки.
В основу «Паролей» лег материал к документальному фильму о философе, снятому Пьером Буржуа. Предмет, ценность, соблазн, непристойное, хаос, предел, судьба, мышление и др. — о каждом из этих понятий автор «Паролей» создает миниатюрный шедевр.
«От фрагмента к фрагменту» — серия бесед, в которых Бодрийяр рассуждает о Ницше и Фуко, строении ДНК и фрактале, патафизике Жарри и театре жестокости Арто. Постепенно читатель становится свидетелем рождения философии и начинает понимать контекст размышлений одного из самых значительных философов современности.
Книга предназначена всем, кто интересуется состоянием современного гуманитарного знания.
Пароли. От фрагмента к фрагменту - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К исследованию этой флоры и фауны предметов я и приступил. Я попытался учесть достижения всех популярных в то время дисциплин, таких как психоанализ, марксистский анализ производства и в особенности лингвистический анализ в духе Барта. Но оказалось, что исследование предмета требует разрушения разделяющих эти подходы границ, что оно навязывает некую междисциплинарность. Предмет по самой своей сути не может быть объектом какой-либо отдельной дисциплины, и тому, кто принимает сторону вещей, он позволяет взглянуть на все существующие подходы с критической точки зрения, а значит, поставить под вопрос саму их аксиоматику, включая и аксиоматику семиологии — в той мере, в какой предметный знак, обладающий множеством взаимоисключающих характеристик, является гораздо более двусмысленным, чем знак лингвистический.
Чем бы в действительности ни удивлял предмет представителей столь различных дисциплин, то, чем он поразил и по-прежнему поражает меня, — это присущее ему и составляющее его постоянную «беспокоящую странность» свойство смещаться, уходить в сторону. И Бог обменных процессов, для которых предмет служит опорой, не получает удовлетворения. Конечно, предметы выступают в обмене в качестве посредников, однако, будучи непосредственными, следуя своей природе, они в то же время и сокрушают всякое опосредование. Предмет, таким образом, демонстрирует свою двойственность: он и подает надежды, и разочаровывает; это значит, что его существо, по-видимому, принадлежит описанной Ба-таем безысходной проклятой доле человека, [6] «Проклятая доля» — важнейший образ философии Ж. Батая. «Батай, — отмечает С. Л. Фокин, — указывает на то, что принцип полезности не может быть единственным принципом в объяснении человеческого существования. Некая часть человеческого существования регулируется не исканием пользы, накопления, сохранения энергии (богатств), но прямо противоположным принципом непроизводительной траты. Необходимость траты… напрочь отвергается капиталистическим строем, в котором все поставлено на накопление и почти ничего — на трату. Доля человека, движимая соприродным ему наваждением траты, не просто отвергается моралью капитализма, она подвергается проклятью; это и есть „проклятая доля“ современного человека» ( Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. С. 151).
греховность которой нельзя искупить. Гpex предметности не искупаем — где-то всегда имеется неподконтрольная субъекту ее «остаточность», и хотя субъекту кажется, будто он изменяет ситуацию к лучшему, создавая изобилие вещей, нагромождая их друг на друга, его действия лишь умножают количество препятствий развертыванию отношений. Первое время предметы способствуют нашему общению, затем пролиферация предметности с неизбежностью его блокирует. Роль предметов, стало быть, весьма драматична — они являются активными игроками там, где разрушается любая простая функциональность. Но именно этот процесс разрушения меня и интересует.
2
Ценность
Ценность [ valeur [7] Слово «valeur» в бодрияйровских текстах весьма многозначно. Как подчеркивает С. И. Зенкин, « valeur — один из универсальных терминов, который у Бодрийяра (как, впрочем, уже и у Сос-сюра) работает в разных семантических полях: это и „стоимость“ в экономике, и „ценность“ в философии, и „значимость“ или „смысл“ в применении к языку, и даже „эффект“ в эстетических конструкциях, таких как живопись» ( Зенкин С. Н. Жан Бодрийяр: время симулякров // Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Перев. С. Н. Зенкина. М., 2000. С. 28).
], безусловно, тесно связана с предметом [ objet ], но, указывая на данное обстоятельство, мы несколько сужаем проблему ценности, ограничиваясь лишь одной стороной дела — касающейся потребительной и меновой стоимостей, этих оснований производства и рынка. Случилось так, что потребительная и меновая стоимости, а также их диалектическое взаимодействие мной с самого начала были восприняты в качестве элементов рациональной конструкции, которая объясняет обмен на базе идеи стоимостной ценности как устойчивой сущности, выступающей всеобщим эквивалентом значений [ significations ]. Как раз тогда эти построения подверглись радикальной критике со стороны вышедшей на сцену антропологии, увлеченной задачей сокрушения идеологии рынка, — то есть рынка как идеологии, а не только как реальности. Антропология указала путь преодоления кризиса обществам и культурам, в которых стоимости в нашем ее понимании, если угодно, не существует, ибо вещи обмениваются здесь не напрямую, а исключительно посредством трансцендентного, посредством абстракции.
Наряду с рыночной существуют и нравственная и эстетическая формы ценности, функционирующие в рамках жесткой оппозиции добра и зла, прекрасного и безобразного… Но какую бы из этих форм я ни рассматривал, меня не покидало ощущение, что мир вещей в состоянии жить и иной, специфической жизнью, о которой можно судить на примере культур, где нет места ни трансцендентности ценности, ни трансцендентности конституирующейся на манипуляции ценностями власти. Разумно было, следовательно, попытаться снять с предмета его рыночную оболочку и увидеть в нем — и не только в нем — некую непосредственность, некую еще не обработанную, не наделенную ценностью реальность. «Она теперь не представляет никакой ценности», «она больше ничего не стоит» — применительно к по-новому раскрывающейся вещи все подобного рода выражения означают одно: что она стала бесценной в полном смысле этого слова. И отныне обменные процессы, в которых, она участвует, определяются уже не принципами контракта — как в ситуации с обычной системой ценностей, — а условиями пакта. Различие между контрактом и пактом весьма существенно: если первый выступает абстрактной конвенцией двух членов, двух индивидов, то второй представляет собой отношение двойственности и причастности. Отношение пакта хорошо заметно в некоторых модальностях поэтического языка, где доставляющий особое наслаждение словесный обмен осуществляется за пределами простой дешифровки слов, по эту или по ту сторону их функционирования в режиме «ценности значения». Но пакт дает о себе знать и в случае обменов предметов и индивидов. В этом плане у вещей появляется шанс остаться на расстоянии от системы ценностей, а значит, и механизмов подавления, почву для которого она создает. Ибо хозяевами языка, хозяевами коммуникации (даже если нашему господству над дискурсом способствует сам акт речи с рядом его модальностей) мы оказываемся только в поле ценности смысла, ибо подчинения рынка мы добиваемся исключительно на территории рыночной ценности. А нравственный контроль устанавливается не иначе, как на основе ценностной противоположности добра и зла… И уже затем возникают органы власти. Возможно, стремление выйти за пределы ценности и утопично, но эта утопия оправдана, коль скоро мы пытаемся мыслить функционирование вещей во всей его полноте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: