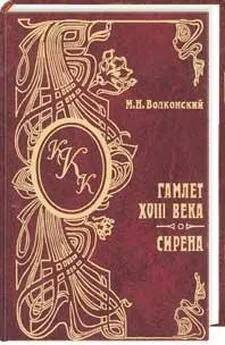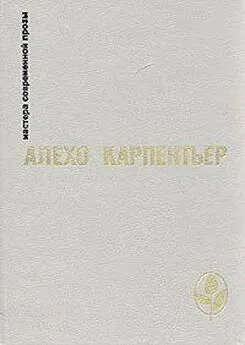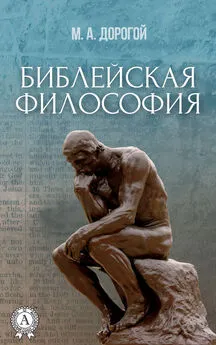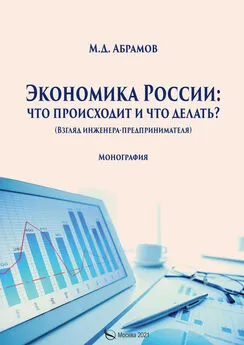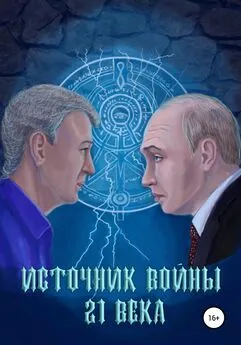Михаил Абрамов - Шотландская философия века Просвещения
- Название:Шотландская философия века Просвещения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Абрамов - Шотландская философия века Просвещения краткое содержание
Шотландская философия века Просвещения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Считал ли сам Юм, что он свел концы с концами в теории вкуса? Он сам признал, что существуют учения, полностью отрицающие возможность найти или установить норму вкуса, примирить чувство и суждение. Ведь чувство всегда правильно, ибо не относится ни к чему, кроме себя, и оно всегда реально. Напротив, суждения ума не всегда истинны, ибо относятся к чему-то вовне, высказываются о чем-то реальном и фактическом, от чего и возможны ошибки. Очевидно, что ценностный, некогнитивный характер эстетических суждений не до конца последовательно отстаивался автором Трактата, из-за чего он иногда ищет стандарт вкуса не в стихийном и переменчивом интерсубъективном соглашении в рамках культурной традиции, а на основе „компетентных“. В целом критицизм Юма — шаг назад по сравнению с эстетикой Хатчесона.
Так или иначе, чувствуется, что сам предмет имеет второстепенное значение в выстраиваемой Юмом системе человеческой природы, что противоречит поставленной задаче в Трактате — выявление фундаментальных основ человеческой природы, поскольку в них содержится все то, что нам сколько-нибудь важно знать (131.I, 56). Времена романтического возвеличивания художественного гения человека еще не наступили.
7. Теория этики. „Человек моральный“. „Есть-Должно“
Все сделанное в двух Книгах Трактата, как уже говорилось, является пропедевтикой к последовательно научной теории морали. Высшее достижение в ней — теория морального чувства Хатчесона, по мнению Юма имела два основных недостатка: первый — теологический способ обоснования объективных „гарантов“ внутренних чувств и их доброкачественности в лице благожелательного Творца. И второй — избыточный плюрализм этих самых внутренних чувств. Первый изъян чреват, помимо всего, следствием, которое в полной мере проявилось в СМФ Хатчесона, когда, несмотря на объявленный приоритет фактов, исследование переориентировалось на идеальный образ человека, на замысел Божий о человеке. Преодолеть отступление от последовательной эмпирики Юм намеревался посредством выявления антропоморфного характера этой теологической гипотезы и выдвижением альтернативного феноменологического подхода — все наши идеи о божестве есть сочетание идей, которые мы приобретаем, благодаря размышлениям над действиями нашего собственного ума. В этом Юм более последовательно, чем Хатчесон следует Локку, который утверждал, что идея Бога не врожденна и может быть выведена только из идей ощущения и рефлексии. Хотя практически Юм осуществил секуляризацию логики познания в I Книге „Трактата“, развернутое обоснование критического отношения к теистическому и деистическому сознанию, так же как и историческая критика религии политеизма дана им в Диалогах о естественной религии и Естественной истории религии, о чем см. в (10 данной главы.
Что касается второго недостатка, то, объясняя его суть, Юм приводит пример слепого подражательства методу неопытного естествоиспытателя, когда он прибегает к особому качеству, чтобы выяснить каждое отдельное действие (131.I, 334).
Еще больше это наблюдение относится к исследованию человеческого духа. „Ведь в силу присущих ему тесных границ его по справедливости можно считать неспособным содержать в себе такое чудовищное количество принципов…. если бы каждая отдельна причина была приспособлена к аффекту посредством особого ряда принципов“ (там же).
Юм констатирует, что ситуация, в какой находится моральная философия, сходна с той, в какой находилась „философия естественная, в частности астрономия до Коперника. Хотя древние и знали принцип, гласящий, что природа ничего не делает напрасно, они создали слишком сложные системы неба, не соответствовавшие истинной философии и в конце концов уступившие место более простой и естественной системе“ (131, 334–335).
Юм и предлагает более простую и естественную систему морали, построение которой было бы невозможно без критической работы в первых двух Книгах „Трактата“.
Вот почему с высказываниями о несогласованности первой и последующих Книг „Трактата“, о противоречии или нерелевантности гносеологии Юма его учению об аффектах и морали трудно согласиться. Уже в начале III Книги Юм недвусмысленно заявляет, что намерен следовать принципам, установленным в начале работы, а именно разделению восприятий на впечатления и идеи, и продолжает употреблять эти термины в том же смысле как раньше. Книга „О морали“ не требует, чтобы читатель углублялся во все содержащиеся в ней отвлеченные рассуждения. Предстоит использование достигнутых результатов в первых двух Книгах „Трактата“. Юм прямо говорит, что наши рассуждения о морали подтвердят все то, что нами было сказано о познании и аффектах (139.I, 497). Юм как бы упреждает охотников противопоставлять Книги „О познании“ и „О морали“.
Небольшой объем III Книги „Трактата“ выглядит непропорциональным по отношению к проделанному исследованию гносеологических и психологических основ теории морали и политики, так видимая часть айсберга намного меньше его подводной части.
Задача Юма облегчалась тем, что Хатчесон проделал уже значительную часть работы по критике этики рационалистов, теологических волюнтаристов и „эгоистов“.
Констатация того, что Хатчесон проделал большую критическую работу в этике, не означает, что Юму нечего было добавить к этой критике; в первую очередь это относится к самому Хатчесону, к его произвольным гипотезам в обосновании объективного стандарта моральных дистинкций. Как видно из их переписки, позиция мэтра в некотором существенном отношении не удовлетворяла Юма. И не только ссылками на внешний авторитет совершенного Творца. Юм понимал, что мотивы Хатчесона носили не только теоретический характер. Иными соображениями руководствовался Хатчесон, когда призывал молодого корреспондента быть благоразумным и осторожным. Но благоразумный философ обречен повторять зады. Клерикалы всегда были врагами новшеств в философии, замечает Юм. В письме к мэтру от 16 марта 1740 г. Юм ставит вопрос ребром. Он просит оценить с точки зрения „благоразумия“ следующий пассаж из первой главы 1 части книги „О морали“: „…когда вы признаете какой-нибудь поступок или характер порочным, вы подразумеваете под этим лишь то, что в силу (особой) организации вашей природы вы испытываете при виде его переживание или чувство порицания.
Таким образом, порок и добродетель могут быть сравнимы со звуками, цветами, теплом и холодом, которые, по мнению современных философов, являются не качествами объектов, но перцепциями нашего духа. И это открытие в этике, так же как соответствующее открытие в физике, должно считаться громадным (значительным) шагом вперед в спекулятивных науках, хотя как то, так и другое почти не имеют влияния на практическую жизнь“ (см.: 197.I, 39). (Почти буквальная цитата из III кн. ч. 1, гл. 1 „Трактата“ (131.I, 510), за исключением опущенного слова „особой“ и замены „значительный“ на громадный. (М.А.). Юм спрашивает, не слишком ли сильно это сказано. Он хотел бы знать мнение мэтра, но не может полностью пообещать, что согласится с ним.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: