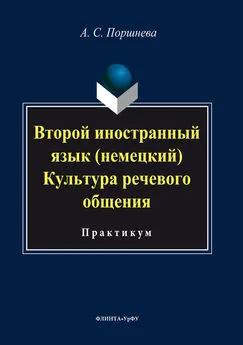Михаил Петров - ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА.
- Название:ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Петров - ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА. краткое содержание
В книге философа и историка науки М.К.Петрова (1924-1987) исследуются проблемы взаимовлияния, общения и преемственности культур, прослеживаются генезис и пути образования разных культурных типов: индийской общины, западноевропейской античности, средневековья и нового времени.
Издание второе, стереотипное
Москва 2004
ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первая конфликтная ситуация возникла после того, как Кювье научно доказал, что среди ископаемых есть вымершие виды, и осознал катастрофическое значение этого факта для парадигмы Линнея: «Сегодня нам трудно даже осознать, какой аномалией представлялся этот факт натуралистам XVIII и начала XIX в. В статической парадигме естественной истории виды находили определение как части устойчивой схемы творения. „Существа изначально сотворены богом, – замечал Рей, – и им же сохранены по сей день в том же состоянии и в тех же условиях, в каких они были созданы впервые". Невозможно было и помыслить, что виды способны вымирать. „Ведь если даже потеряно только одно звено в естественной цепи, – писал Джефферсон, – то могли бы потеряться другие и другие, и вся система вещей должна была бы постепенно исчезнуть"» [174, с 10].
Кювье, по мнению Грина, ловко вышел из положения, сохранив теологическую парадигму Линнея: «К чести гения Кювье следует отнести то, что, создав своими же исследованиями кризис, он сам же и предложил решение. Распространяя метод и принципы сравнительной анатомии на изучение органических ископаемых, он демонстрировал различия между живущими и ископаемыми видами, вводил последние в область систематики естественной истории. В то же самое время, принимая геологический катастрофизм Жана Делюка, он сохранял основные черты статической парадигмы. Виды могли исчезать в результате драматических катастроф неизвестного происхождения, но в интервалах между катастрофами господствовали стабильность и мудрое устроение, обеспечивая тем самым устойчивую почву для ретроспективной таксономии» [74, с. 10-11]. Это изобретательное решение было уязвимо не только с теологической точки зрения – бог-номотет оказывался не столь уж всеблагим и всемогущим, чтобы раз и навсегда определить мир по формам и способам существования, установить ему наилучшие и окончательные законы-номосы, но, и это для нас более существенно, решение было уязвимо и с дисциплинарной точки зрения, создавая весьма опасный для любой информационно самоизолирующейся дисциплины междисциплинарный круг, когда события одной дисциплины объясняются событиями в другой, и наоборот: биология в объяснении вымерших видов опирается на геологию, геология в объяснении катастроф – на вымершие виды, на биологию.
Эту противоестественную для мира науки попытку междисциплинарного общения бесцеремонно разрушил Лайель, жесткой рукой вводивший актуализм в геологию. Основанная на последовательном униформизме и актуализме геологическая парадигма Лайеля, по существу, исключала возможность привлекать на правах причин биологических изменений геологические факторы, поскольку относительно этих последних парадигма постулировала неизменность и постоянство во времени. Тем самым в биологии возник очередной кризис по поводу вымерших видов, из которого она вышла, приняв теорию Дарвина. Для современников главным в этой теории была не борьба за существование и не естественный отбор – эти идеи были известны еще по Мальтусу, – а сохранение многообразия видов в условиях их вымирания. Дарвин решил эту задачу чисто дисциплинарным способом, не опираясь на данные других дисциплин, но при этом серьезнейшим образом повредил парность цели – прославлять мудрость бога и приносить пользу ближним. В Англии это вызвало затяжное антинаучное поветрие, когда еще в 1881 г. Гладстон мог заявлять в адрес науки: «Пусть ученые копаются в своей науке и не лезут в философию и религию, оставив их поэтам, философам и теологам› [84, с. 151]. В других странах, в частности и в США, теория Дарвина встречала весьма прохладный прием, вплоть до печально знаменитых «обезьяньих судов» начала нашего века.
Несмотря на эти частные и порой весьма ожесточенные конфликты в рамках двуединства цели – прославлять мудрость бога и приносить пользу ближним, - возникающая наука в целом не входила в серьезные столкновения с церковью, и это, на наш взгляд, подтверждает основную мысль гипотезы Мертона, в согласии с которой объяснению подлежит и психологическая сторона дела – совместимость научных установок с господствующими установками и системами ценностей общества в целом или отдельных его групп. Тот факт, что Мертон ищет такую группу в новоанглийской языковой общности, косвенно подтверждает и нашу гипотезу о существенной роли структур новоанглийского языка в строительстве категориального аппарата опытной науки и соответственно о большой психологической подготовленности носителей новоанглийского языка воспринять такой категориальный аппарат как естественный, вполне укладывающийся в речевые и мыслительные нормы.
Рахман, например, отмечает: «Языки Индии не развили точных формулировок и словарей для.выражения новых идей. Они поэтому остаются средневековыми по мировоззрению и перегруженными мистическими и неясными словами, эмоциональными по адресу их употребления. Это помогает сохранять веру в сверхъестественное и древнее мировоззрение» [99, с. 227]… Нам кажется, что в таких жалобах на несовершенство языка, а они встречаются часто, стоило бы попробовать различить и. раздельно исследовать две, на наш взгляд, принципиально различные вещи. С одной стороны, это дву- или многоязычие, более или менее естественно возникающее в попытках трансплантировать науку на инокультурную почву. Это та группа фактов, о которой Рахман пишет, что в Кабульском университете, например: «Факультеты естественных наук связаны с Боннским университетом и преподавание здесь ведется на немецком языке, факультеты медицины и фармакологии – с Марсельским университетом, преподают здесь на французском, инженерный и сельскохозяйственный факультеты связаны с двумя различными американскими университетами, и преподавание здесь ведется на английском языке»?99, с. 65]. Относительно этой •стороны дела вряд ли могут возникать серьезные сомнения в желательности перевода науки на родной язык, хотя вот даже в Японии этого сделать не удалось (возможно, и не пытались). Но есть и вторая, более тонкая и почти не исследованная сторона дела – мера совместимости категориального аппарата науки с категориальными арсеналами языков различных типов. На примере европейского очага культуры, в котором представлено как минимум четыре языковых типа (не считая вавилонского смешения языков на Кавказе, в котором еще как следует не разобрались), видно, что никаких особых трудностей и барьеров здесь нет, но проблема все-таки есть, и знание трудностей этого рода, если они существуют, могло бы помочь развивающимся странам более четко определять задачи и цели научной и образовательной политики.
Но вернемся к делу. Хотя нас в общем удовлетворяет гипотеза Мертона, поскольку она подтверждает некоторые наши выводы о благополучном приземлении теологического дисциплинарного снаряда на сокрушительной для теологии новоанглийской лингвистической почве, эта гипотеза, а именно в части, -касающейся выбора группы (пуритане), не удовлетворяет многих историков науки. Замыкание на пуританизм, по их мнению, хорошо объясняет первую составляющую двуединой цели – "прославлять мудрость бога, объясняет утилитарную составляющую двуединой цели научного познания – приносить пользу "ближнему. Мы этим подробнее займемся ниже, поскольку для нас генезис естественнонаучных дисциплин и генезис институтов приложения научного знания – две разные проблемы: первая связана с дисциплинарным оформлением трансмутации наличного массива научного знания, вторая – с трансмутацией наличного технологического арсенала, а это далеко не одно и то же. Пока мы лишь упоминаем о том, что у гипотезы Мертона есть противники и общий смысл их аргументации состоит в том, что гипотеза не объясняет утилитарную составляющую двуединой цели возникающего научного познания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: