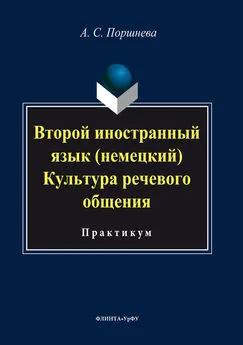Михаил Петров - ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА.
- Название:ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Петров - ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА. краткое содержание
В книге философа и историка науки М.К.Петрова (1924-1987) исследуются проблемы взаимовлияния, общения и преемственности культур, прослеживаются генезис и пути образования разных культурных типов: индийской общины, западноевропейской античности, средневековья и нового времени.
Издание второе, стереотипное
Москва 2004
ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тот факт, что акты речи, устной или письменной, обнаруживают близкую, а именно трансмутационную структуру изменения смысла, сдвига значения, обновления, может свидетельствовать только об одном: творчество всегда было и всегда остается с нами. Любой человек, владеющий любым языком, не только способен к творчеству, но фактически приговорен к нему. Всякий раз, когда он выступает в роли говорящего, он волей-неволей вынужден действовать по правилам трансмутационного акта общения – творить новый смысл и изменять наличный. Из этого, правда, не следует тождества форм познания, требований к продукту познавательных усилий индивида в том или ином обществе, но там, где индивидам приходится социализировать свои вклады, отчуждать их в общее достояние, ситуации и инструментарий в значительной степени универсальны.
Если в предыдущей главе мы основные усилия направляли на разделение мира общения и мира деятельности, доказывали право мира общения на относительную самостоятельность и автономию, то теперь нам предстоит более тонкая, но необходимая для наших целей операция по разделению или хотя бы расшатыванию тождества логического и лингвистического, которое характерно для европейского типа культуры, но не встречается в других типах. Возвращаться к этому тождеству нам придется многократно, но с одной целью – показать очередную грань специфики этого тождества, его принадлежности к нашему типу культуры. В какой-то степени мы его уже задевали, говоря о разрушительном смысле открытия Ингве [20], поскольку "глубина памяти" разрывает связь между синтаксическим правилом и категорией мысли, превращает синтаксис в орудие обхода ментальных ограничений человека. Но там нас интересовало именно наличие субъективной, связанной с "вместимостью" человека характеристики мира общения. Теперь же мы перед другой проблемой. Мы не можем взять тождество логического и лингвистического в арсенал универсалий социального кодирования, каким бы весом и авторитетом оно ни пользовалось в нашем типе культуры. Но мы не можем и пройти мимо этой проблемы тождества без риска сорвать взаимопонимание и оказаться в тупике.
Во многом мы здесь будем говорить о том, о чем кратко уже упоминалось во введении, где мы объясняли исходные термины. Но здесь материал будет связан другой задачей – выйти на универсалии социального кодирования, на те исходные кирпичики, структурные связки, условия осуществимости, которые используются в строительстве социокодов всех культур.
От Аристотеля до Гегеля включительно господствовало в основном логико-категориальное понимание природы языка(1),
(1) Упоминавшийся выше постулат Аристотеля о тождестве синтаксического и бытийного (Метафизика, 1017 а) допускает и чисто "семиотический" вариант перевода: "Сколькими способами говорится, столькими способами и означает себя бытие", но появление в формулировке Аристотеля основного термина семиотики XX в. вряд ли допускает истолкование по классу "предвосхищений", и такой перевод был бы, на наш взгляд, модернизацией.
реликты которого обнаруживаются повсеместно и в нормативных школьных курсах, и в философских учениях. Гегель так формулировал это понимание: "Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом языке… Во все, что для человека становится чем-то внутренним, вообще представлением, во все, что он делает своим, проник язык, а все то, что он превращает в язык и выражает в языке, содержит, в скрытом ли, спутанном или более разработанном виде, некоторую категорию; в такой мере естественно для него логическое, или, правильнее сказать, последнее есть сама присущая ему природа" [14, с. 82].
Попытки знакового истолкования природы языка бывали и раньше. Гоббс, например, мог бы по праву считаться провозвестником структурализма и дескриптивизма. Но как общий сдвиг в понимании языковых реалий и как попытка сакрализации предмета лингвистики знаковая интерпретация языка начинается с Ф. де Соссюра. Положения Соссюра: "Язык – система знаков, выражающих идеи… лингвистика лишь часть семиологии – науки, изучающей жизнь знаков внутри жизни общества" [51, с. 327] – означали не только социологизацию языковых реалий, которым предложено было покинуть тонкую и труднодоступную для исследования область мышления, духовной жизни и войти в связь с грубой институциональной глиной социальности, но и санкцию на уподобление предмета лингвистики предметам естественнонаучных дисциплин по вездесущим нормам актуализма.
Хотя сам Соссюр был в этом вопросе достаточно осторожен, склонялся в истолковании природы языковой реальности скорее к социально-экономическим, чем к естественнонаучным аналогиям и, различая синхронию и диахронию, оставлял место историческим подходам, его постигла обычная судьба пионеров сакрализации предметов под знаком вечности. Конт и Спенсер, например, упорно настаивали на единстве социальной статики и социальной динамики как на двух равноправных аспектах социальной реальности, но следующие поколения социологов лишили предмет социологии отметок времени, превратили социальную динамику в бесструктурную возможность социальных изменений и сдвигов. Точно так же и Соссюру не удалось удержать лингвистику на перекрестке синхронии и диахронии. Синхрония превратилась в ахронию обычного, лишенного отметок времени образца, а диахрония ушла на второстепенные роли аппендикса лингвистической теории, о котором вспоминают только тогда, когда ничего другого не остается. Пафос лозунга современных лингвистов (текст – природа лингвиста!) состоит не в подчеркивании специфики текста как языкового феномена – постулат диссоциации на уровне предложений вообще запрещает процедуру идентификации текстов среди нетекстов, а в подчеркивании "природности" текста, сравнимости языковых реалий с природными, правомерности переноса методов естественнонаучных исследований в лингвистику.
Соссюр лишь пошатнул традицию логико-категориального истолкования природы языка, хотя и подставил под удар ее уязвимое место. Рассматривая знак как единство означаемого и означающего в более или менее традиционном духе (означаемое – понятие, означающее – акустический образ), Соссюр обнаружил изменяемость, сдвиг значения: "Прежде всего разберемся в том смысле, который приписан здесь слову "изменяемость". Оно могло бы породить мысль, что здесь специально идет дело о фонетических изменениях, претерпеваемых означающим, или же о смысловых изменениях, затрагивающих означаемое понятие. Такой взгляд был бы недостаточен. Каковы бы ни были факторы изменяемости, действуют ли они изолированно или комбинированно, они всегда приводят к сдвигу отношения между означающим и означаемым" (51, с. 339]. Но Соссюр не придал этому сдвигу функционального значения, не увидел в нем нормы и правила трансмутационного общения. Тождество логического и лингвистического было поставлена под сомнение, но само сомнение приняло вид изменчивости вообще, принципиальной возможности сдвигов и изменений в знаке. Не успев появиться, проблема оказалась закрытой от изучения просто потому, что этим сдвигом нечего было объяснять. Историческое измерение процессов общения закрывалось системой постулатов актуализма, исчезало из поля зрения исследователей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: