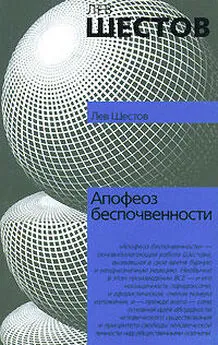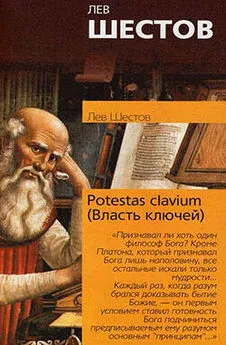Лев Шестов - Умозрение и Апокалипсис
- Название:Умозрение и Апокалипсис
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Шестов - Умозрение и Апокалипсис краткое содержание
Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.
Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.
Умозрение и Апокалипсис - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И действительно, если «программа жизни», как говорит Ренан, есть свет, разум и истина – то откровение Св. Иоанна, как и откровение всего Св. Писания, не находит и не может найти себе оправдания. Там, где Откровение, ни наша истина, ни наш разум, ни наш свет ни на что не нужны. Когда разум обессиливает, когда истина умирает, когда свет гаснет – тогда только слова Откровения становятся доступны человеку. И, наоборот, пока у нас есть и свет, и разум, и истина – мы гоним от себя Откровение. Пророческое вдохновение, по самой природе своей теснейшим образом связанное с Откровением, только там и тогда начинается, когда все наши естественные способности искания кончаются.
Х
Соловьев до последних дней своих не хотел это признавать: «для философа по призванию нет ничего более желательного, чем осмысленная или проверенная мышлением истина; поэтому он любит самый процесс мышления, как единственный способ достичь желанной цели и отдаться ему без всяких посторонних опасений и страхов». [34]«Осмысленная», «проверенная мышлением» истина! Как будто бы и в самом деле так просто и ясно. Несколько дальше он заявляет: «Существенная особенность философского умозрения состоит в стремлении к безусловной достоверности, испытанной свободным и последовательным (до конца идущим) мышлением». Но ведь и Ренан только и стремится, что к проверке и достоверности: сколько раз он об этом говорит. «Только наука чиста… Ее обязанность доказывать, а не убеждать или обращать… Одна наука ищет чистой истины. Только она приводит достаточные основания для истины и вносит строгие критические приемы в свои доказательства». [35]Правда, как я уже указывал, Ренан не слишком задумывается над тем, что такое «достаточные основания» или «строгие критические приемы». Он, как многие ученые, даже перворазрядные, в этом отношении отличается большой наивностью – он даже не чувствует, какие тут заключаются трудности. Как пример (все из того же предисловия) – его слова: «мы отвергаем сверхъестественное на том же основании, на котором отвергаем существование центавров: никто их не видел». Когда-то Ларошфуко не менее уверенно (и наивно) заявлял: «с великими страстями обстоит так же, как и с привидениями: все о них говорят, никто их не видел». Очень остроумно, очень импонирует – спору нет. Но «достаточных оснований» и «строгих критических приемов» тут и под лупой не разглядишь. Откуда известно Ларошфуко, что никто никогда не видел великих страстей или привидений? Или Ренану – центавров и сверхъестественного? Переспросили они, что ли, всех когда-либо живших людей? И затем, если бы кто-нибудь им сказал, что своими глазами видел, разве они бы поверили ему? Ясно, что «видение» – тут ни при чем. И Ларошфуко и Ренан вперед знают, что ни великих страстей, ни привидений, ни сверхъестественного нет и быть не может и отсюда заключают, что никто ничего подобного видеть не мог. Основания – не слишком «достаточные» и приемы не очень строго критические! И это называется «свободным» исследованием… Но то Ренан и Ларошфуко – а ведь Соловьев хотел быть философом, и ему уже никак не полагалось прибегать к таким легковесным соображениям. Но, видно, и философы не так озабочены «доказательностью», как это принято думать, и не слишком тоже дорожат «свободным» исследованием. У них иная забота!
Соловьев, вообще говоря, человек сдержанный, в очерках теоретической философии не может удержаться от бранных слов по адресу своего воображаемого теоретического противника. Он пишет: «если на ваше заявление… какой-нибудь самоуверенный потомок второго сына Ноева возразит и т. д.». Теоретический спор – и вдруг брань – да еще какая: потомок второго сына Ноева, т. е. хамское отродье. И это не случайно вырвавшееся слово! При спорах о «последних основаниях» наступает момент, когда все так называемые доказательства исчерпываются и приходится искать иных способов защиты своих истин. И тогда выясняется, что вовсе и не в достоверности дело, что нужно совсем не убедить инакомыслящего, а принудить к соглашению и что если увещания не действуют, то надо его посрамить, опозорить. Вот почему в «Теоретической философии» нашлось место для таких слов, как «потомок второго сына Ноева». То же можно было бы сказать, и обычно говорится, иначе. Например: «человек существует достойно, когда подчиняет свою жизнь и свои дела нравственному закону и направляет их к безусловно нравственным целям». [36]Это литературнее, спокойнее – но под этим скрывается все то же «хамово отродье». Недаром Соловьев так много говорил о стыде и хотел свою этику обосновать на чувстве стыда. Вы видите, что и гносеологии, т. е. учению о достоверности нашего познания, приходится оберегать свои права теми же способами, что и этике. Если не принудить человека, он, очевидно, ни за что не согласится окончательно и навсегда принять ни устанавливаемые Соловьевым «достоверности», ни восхваляемые им нормы.
Бывают, правда, люди, которых ни брань, ни угроза не проймут, а обещаемые награды не соблазняют: на брань они ответят бранью, а на обещание наград – издевательством. Соловьеву это следовало бы знать – ведь он читал Достоевского: не только «Записки из подполья», но и его последние вещи («Кроткая», «Сон смешного человека»), написанные в ту пору, когда они были близки и в Оптину Пустынь вместе ездили. Что же, он и по поводу Достоевского вспоминал о втором сыне Ноевом? Ведь как раз Достоевский в названных произведениях – да и во многих других – издевается над нашими достоверностями и очевидностями и даже над всем «высоким и прекрасным». Но Соловьев «прощал» Достоевскому подпольного человека за старца Зосиму, не замечая, по-видимому, что настоящий святой – это вечно мятущийся человек из подполья и что старец Зосима – только обыкновенный лубок; голубые глаза, тщательно расчесанная борода и золотое колечко вокруг головы.
Соловьев весь был во власти того, что Гарнак назвал das Hohelled des Hellenismus. Оттого, вопреки его уверениям, что он ищет Бога, он искал только истины и добра. Точно подражая Толстому или Маркиону, он писал: «та воля, с которой мы рождаемся, воля нашей плоти, подчинена природе, а природа подчинена греху, господствующему в ней. Пока мы действуем только от себя или от своей воли, мы неизбежно действуем от греха, как рабы и невольники греха». [37]Или еще сильнее: «преграда, отделяющая от сущего добра или Бога (так и написано – „сущего добра или Бога“ – чем не Толстой?), есть воля человека. Но этою же самою волею человек может решиться не действовать от себя и от мира, не поступать по своей мирской воле. Человек может решить: я не хочу своей воли. Такое самоотречение или обращение человеческой воли есть ее величайшее торжество… Бог не хочет быть внешним фактором, который невольно навязывается нам: Бог есть внутренняя истина, которая нравственно обязывает нас признать ее. Верить в Бога есть наша нравственная обязанность». [38]Все это общие места философии, все это можно найти и у Гегеля, и у Шеллинга, и у любого представителя немецкого идеализма. Но хотя немецкие философы всегда очень хлопотали о том, чтобы связать свои идеи с христианством – ведь Соловьев все же восставал против них, говорил о «кризисе» западноевропейской мысли и искал нового слова в Священном Писании. И вдруг вместо нового он повторяет старые слова и еще с большей настойчивостью, чем его учителя, подчеркивает зависимость религии от морали и принудительность (хотя бы внутреннюю – разница не велика!) истины откровений. Ни Гегель, ни Шеллинг так не наседают: верить в Бога есть наша нравственная обязанность. Почему «обязанность»? Откуда у Соловьева страх, что если он не обяжет, не свяжет человека, то человек Бога не примет? Разве вера в Бога есть обязанность? Ведь вера в Бога есть великая прерогатива человека, дар небес, сравнительно с которым все остальные дары кажутся ничтожными или, лучше сказать, без которого жизнь и все, что есть в жизни, становится призрачным, почти не существующим. Можно ли говорить о Боге, как об обыкновенной земной истине, которая обязывает, принуждает – нравственно или как-нибудь иначе? И что тогда остается от свободы?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: